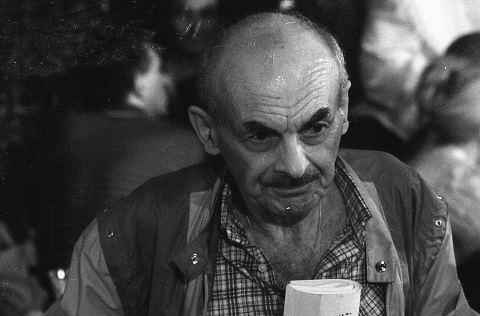Ну вот, важное, а для кого-то и важнейшее слово «свобода» в очередной раз подвергается в наши дни серьезным испытаниям. Проницательный читатель скорее всего легко догадается, что речь идет об очередном общественном водоразделе, об очередном свежем саднящем шве на поверхности общественного организма, о символической (пока) гражданской войне «ваксеров» и «антиваксеров».
К первым отношусь и я сам, и практически все мои друзья. То есть все те, для кого понятие «свобода» является одной из базовых категорий.
Но в наши дни о «свободе» гораздо чаще вспоминают и говорят идейные и страстные антипрививочники и антимасочники, обвиняя сторонников вакцинации и добровольных носителей масок чуть ли не в тоталитарном сознании.
Знакомая дама рассказывает, что садится она на днях в такси и, конечно же, тут же надевает на лицо маску. Водитель при этом сидит без маски. «Молодой человек, - говорит очень вежливая дама, - не будете ли вы так любезны и не наденете ли вы маску?»
«Неа! – беззлобно и даже весело, но при этом вполне категорично отвечает водитель. - Не надену. Я не боюсь этой заразы!»
«Но я боюсь!» - темпераментно воскликнула дама.
Водитель был искренне поражен таким неожиданным поворотом темы. И молча напялил на себя маску.
Остаток пути они ехали молча, но даме показалось, что молодой человек задумался о чем-то таком, о чем раньше задуматься ему как-то не случилось.
Свобода, да! Сладное слово, что и говорить.
Но представьте себе, что некий поборник абсолютной свободы возмущается суровым законом, в соответствии с которым водитель, который рулит, будучи «выпимши», лишается прав на какое-то время, а то и навсегда, и, патетически сверкая глазами, восклицает: «Я свободный человек! Машина – моя собственность! Разобью ее – моя проблема! Изуродусюсь сам – тоже моя проблема!»
Представили? Вот и «антиваксер», вот и антимасочник говорят примерно то же самое. «Заболею? Помру? А вам какое дело? Мое тело – мое дело! Чего? Могу кого-нибудь заразить? Чего это я могу кого-то заразить! Не собираюсь я никого заражать!»
Кроме «свободы» есть еще такое понятие, как «коллективизм».
И это понятие прочно сидит и болезненно ноет в сырую погоду в коллективной печенке нескольких поколений людей, выросших в СССР и с раннего детства слышавших «Будь как все!», или «Не отдаляйся от коллектива», или «А если все начнут вот так вот делать?», или «Ты тут самый умный, что ли?»
Стоит ли удивляться тому, что в результате многолетнего изнурительного и навязчивого, как температурный сон, пионерско-комсомольского воспитания так называемого коллективизма, выросли несколько поколений чаще всего бессознательных, но тем еще более глубинных безнадежных эгоистов.
Я лично, будучи не только пассивным свидетелем, но и одним из объектов этого самого воспитания, более или менее понимаю, почему это так получилось.
Ну, во-первых, уже упомянутая навязчивость, неизбежно отчуждающая объект внушения от его источника.
Во-вторых, дело в том, что советская идеологическая практика, с одной стороны, оперировала «буржуазными», то есть общечеловеческими, категориями, потому что где же взять другие. С другой же стороны, она им не вполне доверяла, видя в них, - и, кстати, справедливо, - некоторую опасность для собственной устойчивости.
Поэтому в идеологической риторике возникали такие языковые мутанты, как «социалистичеческий гуманизм» или «подлинная демократия» (не путать с «не подлинной», то есть с «буржуазной»).
Постепенно граждане, обладающие хотя бы зачаточным языковым чутьем, начинали понимать, что все то, что маркируется прилагательными «социалистичеческий», «коммунистический» или, пуще того «подлинный», не имеют никакого отношения ни к гуманизму, ни к реализму, ни к демократии, ни к коллективизму.
Нет, все же что-то такое имело место. Перевести старушку через дорогу? Уступить место в трамвае инвалиду с костылем? После уроков «подтянуть» по русскому языку двоечника-одноклассника? Можно, конечно. Но желательно - по поручению и под присмотром пионерской или комспомольской организации.
«Человек человеку друг, товарищ и брат», - было записано в советских скрижалях, называемых «Моральным кодексом строителя коммунизма».
Этот кодекс, вроде как комедия «Горе от ума», был раздерган на цитаты, в виде плакатов украшавших улицы городов и стены госучреждений.
А пункт про друга, товарища и брата, синтаксически и отчасти семантически калькирующий не менее известный латинский крылатый афоризм про lupus est, особенно наглядно применялся или хотя бы вспоминался в километровых очередях за обглоданными костями «на первое» или за тортом «Птичье молоко» накануне 8 марта.
Война прививочников с антипрививочниками тем временем продолжается. И конца ей что-то пока не видно.
А чтобы хотя бы на короткое время отвлечься от нее, от этой войны, будь она неладна, мы занимаемся привычным, утешительным и примирительным делом. Мы наблюдаем за всем тем, что происходит в нашем родном языке.
Вот уже в наш язык прочно входят новые слова и понятия. Вот уже коммуникативное и информационное пространство наполнилось звонким журавлиным курлыканьем: «Куар! Куар! Куар!»
Вот я уже с нетерпением жду, когда кто-то кому-то скажет ворчливо: «Чего раскуаркался?»
И я жду, что кто-нибудь, рискуя задеть ненароком чьи-нибудь религиозные чувства, предположит шутливо, что в царствие небесное пустят только по предъявлению куар-кода.
И я жду, что пока я тут сижу и чего-то сочиняю, возьмет да и влетит в мою форточку черный ворон, усядется по-хозяйски прямо на клавиатуру моего ноут-бука и поглядит мне прямо в глаза. И каркнет ворон: «QR-код!»
И покажется нам вдруг, что нет никакой войны и нет никакой свары. А есть только он, наш, как всегда, спасительный язык, который все помнит и все знает. И который сам по себе – вакцина.