Автор – Диляра Тасбулатова
Денис Драгунский - известный писатель, при этом очень плодовитый: «Болдинская осень» у него не прекращается и летом, и зимой, и весной. Непонятно, как это возможно чисто технически, тем более что романы у него разножанровые. Новая книга Драгунского «Богач и его актер» чем-то похожа на сценарий, тем более что главный герой – актер.
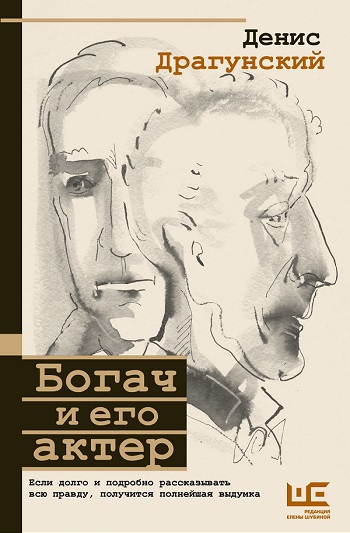
Денис Викторович, ваш новый роман написан так выпукло, так «кинематографически», что это уже похоже на сценарий – причем, сериала. Но сериала культурного, английского, например. У нас проще пишут – ну, сами знаете…
- Ой, не рвите мне сердце. Мне все друзья хором говорят, что вот, мол, поставить бы такое – вот это было бы да… А я им – ну и почему бы не поставить? Но они говорят, что у нас намеренно ставят ерунду какую-то, причем уверяют, что это специально делается.
Совершенно верно. И при этом все ноют, что нет сценариев, часто кидают клич: дайте хороший сценарий! А дашь, так они даже и читать не станут. Ну вот, прочитав ваш роман, я представила себе такой длинный, роскошный сериал – десять серий, скажем. Необязательно британский, хотя они умеют это лучше всех делать, можно, например, итальянский. Роман, я ж говорю, визуально написан.
- Ну я вообще так люблю писать, действием: подошел к двери, взялся за ручку, открыл дверь… Но если так писать, Пруст покажется спичечным коробком…
?!
- По объему, не пугайтесь. В смысле если описывать всё, все действия, тогда роман разрастется до ста томов, поэтому я иногда пропускаю действия.
Интересно, что Пруст, о котором уже даже неловко говорить в превосходных степенях, и так всё понятно, писал как раз не кинематографично - Висконти поэтому страшно боялся за него браться. Но ладно, оставим в покое Пруста, у нас же интервью про вас, а не про Пруста. Так вот, что я хочу спросить: как думаете, повлияло кино на литературу?
- Разумеется. Литература стала более сжатой. Писать, как писал Тургенев, Толстой или даже Достоевский, в ХХ веке стало просто невозможно: ведь кино это 60 минут или 120, значит, это 60, 120 или даже пусть 200 страниц. И так и хочется сказать, скажем, тому же Тургеневу – ну давайте, ну начинайте, ну действуйте уже! Пишите быстрее! Потому что литература стала действительно более действенной. Но, с другой стороны, обратное влияние заметнее: литература все-таки больше повлияла на кино, чем кино на литературу. Хорошая литература, я имею в виду. Повлияла в любом смысле – композиции, смены точек зрения, вещности – фактурности то бишь.
Зато кино «реабилитировало физическую реальность», как говорил один умный немец, Кракауэр. То есть создало образ видимый. А не «мыслеобраз», как в литературе.
- Не спорю.
…«Монтаж» присутствует даже в «Милом друге» Мопассана – когда Жорж Дюруа ждет девушку, которую украдет и женится на ее миллионах. Там городские часы бьют – удар, еще удар, и эти удары приближаются, как камера приближается или как звук, он тоже ведь в кино монтируется...
- Ну вы знаете, это даже в «Илиаде» есть: копье летит, а потом втыкается. А знаменитый пассаж из «Полтавы»? Глаза сверкают, лик ужасен, движенья быстры, он прекрасен – все время как будто камера то его приближает, то отдаляет. На самом деле в литературе таких вот композиционных переходов, «планов» сколько хочешь, с общего на крупный, на деталь, а потом - панорама - на пейзаж, потом – обратно на крупный. Литература вся на этом строится, на чередовании таких планов. В конце концов даже диалоги Платона - это в своем роде голливудская восьмерка.
Ой, смешно. Поясню сейчас читателям, не все знают, что такое восьмерка – чередование крупных планов собеседников. Но это очень остроумно – может, статью об этом напишете? Будете теоретиком кино ко всему прочему.
- Ой, нет, Вы лучше это в интервью вставьте.
Окей. Так, идем дальше. Вы когда роман писали, визуально его представляли? Некоторые не представляют – они следят за пластикой слова. А кто-то, мне кажется, и вы тоже – видят свой роман внутренним взором. Ну, как это видят сценаристы, как правило – будущий фильм они видят.
- Ну да, я видел. Когда начал писать, эти картины так и стояли перед моим внутренним взором. Весь этот огромный зал посередине старого отеля, эти номера старинные… Тем более, что я в этом отеле бывал. Жил там недолго.
Опять хочу в Париж
Это какая страна?
- В целом – Скандинавия. Может, Швеция, может, Дания.
Обобщенная Северная Европа? Есть такое мнение, что русские могут свободно войти в любое другое национальное «тело», представить себя и тем, и другим, и третьим – французом, шведом, датчанином. Недаром так хвалят нашего Шерлока Холмса. Они, европейцы то есть, не могут, все их фильмы о русских – липа. Хорошо это или плохо, другой вопрос: иные говорят, что плохо, свидетельствуя о текучести и неопределенности русского характера.
- Я вот что думаю – ну, например, показал бы я свой роман шведу, скажем. И он бы мог сказать мне: ты что, вообще охренел? Где ты такое видел? И стал бы тыкать пальцем – вот, вот, вот! Но я хочу у вас спросить, как специалиста-кинокритика…
Можно и на «ты».
- Хорошо, хочу спросить у тебя: наш фильм «Рафферти» - как он был американцами воспринят?
С иронией, конечно. Думаю, как фейк восприняли.
- Как грубый фейк, типа Шварценеггера в роли советского мента, или все-таки, как Зощенко писал, «в меру скромного таланта честно попытался отобразить»?
Думаю, все-таки не грубый, но… Олег Борисов, конечно, великий актер, но он не американец – повадка иная, антропология, манеры, всё другое. Но, с другой-то стороны, внутри Европы эти ментальные сдвиги возможны: итальянец Висконти снял же немецкую трилогию, и ничего.
- А поляк Вайда - «Дантона». А Форман о Моцарте. А мы чем хуже?
Ой, ну мы не хуже, нет, совсем не хуже… Ну просто сложно проникнуть в чужую культуру… У меня после месяца пребывания в Америке к физиономии прилипает такая дежурная сладкая улыбка, челюсть даже побаливает, ха-ха. И это хорошо, я становлюсь любезнее, нет причины хамнуть в ответ. Хуже или лучше, черт его знает, но… Мы завидуем им, конечно, мне так кажется. Больше, думаю, их бытовой культуре, цивилизованности.
- Да, конечно, мы завидуем их культуре, что есть, то есть… Когда я приезжаю в Милан, допустим, и в Миланском соборе вижу список всех его настоятелей, начиная от какого-то первого монаха, а при этом знаменитый святой Амвросий Медиоланский, которого одинаково почитают и католики, и православные – там вообще на восьмом месте среди настоятелей стоит, как будто в очереди… Представляешь, что я испытываю? Какова традиция, а? И список кончается кардиналом, который сегодня там настоятель.
Обалдеть. Всех помнят. И сколько их там?
- Да, наверно, 120 или больше даже, и все они, соответственно, на этой доске перечислены. Но когда я вхожу в какой-нибудь русский храм, даже очень древний - ничего подобного я не вижу.
Завидки берут.
- Мне действительно завидно, что у нас с исторической памятью какая-то хрень, мы совершенно не помним каких-то, казалось бы, даже простых вещей. Я вот совсем не уверен, что у нас список настоятелей Успенского собора в Кремле был написан на какой-то дощечке…. Да, бывают такие чувства - культурной зависти.
В основном, наверно, к Италии?
- Да. В которой сосредоточено 90 процентов культурного наследия всей Европы.
Это у вас, культурного человека, зависть к списку настоятелей Миланского собора. А я вот люблю там пирожное «Форнарина» - сидишь рано утром, часов так в семь утра, в Венеции, и мимо несут лотки с этой «Форнариной». Ну и выпросишь себе, вместо круассана, прямо с лотка, денежку потом отнесешь на кассу. Как говорил Юрский в фильме «Любовь и голуби» - культура, ептить!
- Хе-хе. Так и есть - на самом деле это зависть к тому, что там просто удобно жить. Попросту говоря. Ну и к правовой институциональной системе, к уровню жизни, к вежливости на улице, - к этому всему. Но… в этой нашей завистливой любви к Европе, как ни смешно звучит, занимает главенствующее место комфорт.
Вот я и говорю. Никто не толкается, скидки в магазинах тряпья, даже на мой размер кое-что есть.
- Да ладно тебе. Но вот что забавно-то. Было время, когда нетто-коэффициент миграции был позитивный для России. То есть их к нам – приезжало больше, чем нас к ним. Когда в конце XVIII - начале XIX века к нам ехали французы и швейцарцы – да кто только к нам не ехал. Потому что в России было удобнее жить, давали поместье, земли – и, между прочим, не дворянам. В общем, в России тогда, как сейчас бы выразились, была очень благоприятная бизнес-среда - для часовщиков, портных, парикмахеров, гувернеров. Дальние предки моей жены Ольги - немцы, которые в 1805 году бежали в Россию из Баден-Вюртемберга, спасаясь от Наполеона.
Это как?
- Да вот так. Они знали, что Наполеон будет призывать парней в армию, а у них в семье было пятеро ребят. И они подумали - ну ни фига себе, зачем ребят-то губить ради какого-то там Наполеона? Так вот, они обратились в российское консульство, им там сказали, что, мол, да ради бога, пожалуйста, велкам. Под Петербург причем, не куда-нибудь в глушь. Ну и дали им земли, огороды – свои, собственные. А это ведь были простые люди, огородники. То есть было время, когда Россия тоже была привлекательна. Давно это было, правда, слишком давно…
Россия vs Европа
Мы углубились.
- Да, вернусь к себе. Хочу вот что сказать – когда я писал эту книжку, меня спрашивали, почему это всё происходит в Европе? Почему, грубо говоря, в Скандинавии, а не в России? Ну, и я отвечаю - во-первых, эта история чисто европейская, и описанная мною ситуация никак не может произойти в нашей стране. Может быть, с годами она бы и могла произойти, но… Видишь ли, у нас в стране нет такого предпринимателя с пятью поколениями богачей в анамнезе, просто нет в природе такого. Который бы построил роскошный отель, куда он может пригласить хоть Рокфеллера - чтобы он сыграл сам себя, в фильме, задуманном этим богачом. Ведь человек этот так богат и респектабелен, что и Рокфеллер, если тот попросит, к нему приедет. Или, скажем, какой-нибудь Яша Хейфец, или тот же Бергман. А тут разве что Элтон Джон, если ему заплатить как следует.
Элтон Джон ездит – смотря какова цена вопроса.
- Тем не менее таких, кто был бы встроен в европейскую элиту, не только финансовую, но и художественную, у нас нет. Потому-то и случиться того, что у меня в романе описано, здесь не могло бы в принципе. Но я пишу про Европу, потому что тоже чувствую себя человеком Европы и не хочу себя отделять от этого пространства.
У нас ее либо ненавидят, завидуя при этом и будто заклиная, что у нас типа особый путь, либо, пардон, настолько преклоняются, что порой тошнит. Что-то в этом есть лакейское – в обоих случаях.
- Вот и мне не хочется писать, что это, мол, наши русские дела, наши российские-советские, а вот эти ваши, и идите вы куда подальше. Предыдущий мой роман, «Дело принципа» - про австро-венгерскую девочку, и это тоже как бы европейский роман.
Это странное чувство. Не знаю, как объяснить – такое как бы спокойное чувство, без зависти, злости и такое …не знаю, как сказать… объединяющее? Нас с Европой? Сказал же Достоевский, что Россия - это Европа?
- Я в умственном состоянии европейца чувствую себя свободно. Я не притворяюсь – правда.
Подмигивания
- Я этого фильма не видел.
В плагиате не подозреваю – я имею в виду, что это такой распространенный психоаналитический мотив в культуре. Вообще в романе много таких мотивов – можно ли сказать, что ваша новая книга ко всему прочему, - такая оркестровка основных европейских психоаналитических мотивов?
- Отчасти да. Но основной смысл романа - и для меня это очень дорого - это даже не тот факт, что герой романа потерял себя. Мне было важно описать такую, знаете, обыденность страха, когда человек все время чего-то боится. Я потому так тщательно описал, как он вечно стесняется что-то спросить, попросить, всего опасается, а когда ему наконец предлагают, он ломается, отказывается, боится, как бы чего не вышло. Боялся попроситься в хорошую труппу, боялся устроиться в театральную школу профессором, хотя имел на это полное право. Человек, которому постоянно неловко. Один из тех, обиженных жизнью, кто считает, что им все должны – оценить, поклониться, предложить и долго уговаривать…
Но в конце концов так и получилось?
- Да, когда в один прекрасный день кто-то вроде Висконти или Росселлини, а может, и, Феллини (я на него сильнее всего намекаю) приезжает в его провинциальный театр с лестным предложением, и он, согласившись, теперь думает, что отныне всё будет само падать ему в руки. Но, конечно, ничего само не падает, и он снова чувствует себя обиженным, обделенным. То есть это книга о лузере, которому один раз повезло. И эта сцена, где он ходит голодный, а эти богачи едят, сидя за роскошно накрытым столом, где ему не хватает даже на дешевый китайский ресторан - это такое как бы подмигивание Гамсуну.
Там у вас много подмигиваний. Главный герой намекает на Макса фон Зюдова?
- И на Дирка Богарда тоже. Это такой гибрид Зюдова и Богарда. Поскольку Богард играл Ашенбаха в «Смерти в Венеции» у Висконти...
А Зюдов у Бергмана, понятно… Можно ли сказать, что это в каком-то смысле итоговый европейский роман - со всеми его мотивами?
- Ну это пусть критики говорят, я такого не говорил. И не мог бы сказать. Это было бы наглостью с моей стороны. Но в каком-то смысле ты права: можно сказать, что этот роман в чем-то, как пишет одна критикесса, подытоживает золотой век европейского кино, и, наверное, тем самым – европейского психологического романа. Потому что сейчас пошло что-то не то, либо садистические описания, либо еще хуже – такие «теплые» романы, которые я терпеть не могу.
Мне кажется, что вы в этом романе удачно избежали так называемой литературщины, и написали выпукло, кинематографично. Он поэтому чем-то похож на литературный сценарий – «киноповесть», как раньше говорили.
- Теперь скажи честно – тебе самой понравилось?
У меня один принцип – интересно или не интересно. Вашу книгу было читать интересно, увлекательно. Хотя Пушкин и говорил – если вам скучно, может, это и есть настоящее произведение искусства, это не всегда так. Я в принципе с огромным трудом читаю современную русскую прозу, потому что она в большинстве своем филологична – сделано профессионально, но… Скучно. Так что я вас поздравляю с выходом книги – это какой-то новый шаг, где есть, как молодежь выражается, «движуха», а не рассуждизмы и «описания природы», хе-хе. При этом за чисто «сериальной» драматургией, в хорошем смысле сериальной, за неожиданными сюжетными поворотами настоящие проблемы – как мы уже говорили, общеевропейские.
фото: Анна Артемьева, личный архив Д. Драгунского















