Готовность к риску
Недавно была вручена Нобелевская по литературе, и мы решили осветить это событие, расспросив двух известных людей, знающих предмет, о некоторых парадоксах, связанных с самой престижной наградой в мире литературы. С Драгунским интервью уже вышло, теперь мы предлагаем вашему вниманию интервью с литкритиком Ермолиным.
Евгений, хотела бы вас как известного литературного критика, которого я каждый день читаю, расспросить кое о чем. Насколько Нобелевская в области литературы перестала задавать тон? Или, наоборот, не перестала? Определяет ли она какие-то стратегии – дискурсивные, извините за выражение. Действительно ли она становится менее популярной? Или нет?

Евгений Ермолин
– Мне кажется, все по-разному. Скажем, в России, если ретроспективно взглянуть, – ну, на последние тридцать лет – был период, когда премии очень много значили. Но сейчас уже понимаешь, что исторического значения они, по сути, не имели...
Даже крупные?
– Да, и они тоже – премии с амбициями. Вроде «Русского Букера», как он назывался в последнее время.
Английский «Букер» влиятельнее?
– Он – да. Что касается Нобелевской, мне кажется, здесь по-другому: она прошла несколько исторических кульминаций – таких, когда все совпадало – исторический момент, личность писателя, намерения Нобелевского жюри... Здравомыслие, с одной стороны, а с другой – готовность к риску. Когда они, например, Пастернаку дали или Солженицыну. Близкие нам примеры, чтобы далеко не уходить от наших реалий, советско-российских. Вот это имело и резонанс, и историческое значение. Ну, по крайней мере в наших пределах. Но в других обстоятельствах решение жюри не имело никакого значения, да и вообще трудно объяснимо.
Пенсионный фонд
В смысле?
– Понимаете, Нобелевская – она ведь не за высшее достижение. Дают не за художественные вершины, но и не за злобу дня, не за политический радикализм.
Тогда за что?
– За гуманистические, скажем так, ценности. А это весьма неопределенное понятие.
Это точно – поди пойми, что это значит.
...Хотя, возможно, для жюри Нобелевской и определенное. Понимаете, это же скандинавские профессора, живущие в очень стабильном мире, с устойчивыми традициями и представлениями. И хотя они все же держат какую-то планку, которую вроде и не оспоришь, понять их точку зрения, кто там на самом деле утверждает эти самые гуманистические ценности, а кто нет, сложно...
Смешно.
– И поэтому Набоков, скажем, Нобелевскую не получил, – он, видимо, для них был сомнительным персонажем. А из наших современников Уэльбек, например, не удостоился, – и это при всем его резонансе. Ибо с точки зрения мейнстримного стандарта гуманизма он такой как бы... сомнительный гуманист.
Радикальный, ага. И не то чтобы циник, но иногда из него такой Жан Жене лезет, страшно становится. Съели там кого-то...брр...
– Хотя если радикал вроде Хандке уже на глубокой пенсии, а его политический радикализм в прошлом, то можно и дать. Или, скажем, Боб Дилан, которого тоже можно счесть радикалом – он, в общем-то, и был им когда-то. Но это время давно прошло, так что заслуги Дилана увенчали за долгожительство.
Может, хотели расширить границы литературы?
– Это да. То, что жюри пошло на риск расширения границ и обозначения новых возможностей, – я, скорее, приветствую.
Гендерный принцип
Все–таки это не тот масштаб, как вам кажется? Иногда даже смешно становится. Можно уже кому угодно дать – например Мадонне или сатирическим стишкам на русском.
– Да, я склонен согласиться, ибо в итоге что получается? Что художественная значимость, которая не всегда легко определяется, но зато остро чувствуется, оказывается далеко не главным критерием. Мы, кстати, с вами еще не все критерии обсудили.
Так давайте. Обсудим.
– Тут несколько вещей. Скажем, жестко выдерживается гендерный принцип, мужчины и женщины должны сменять друг друга. И еще принцип многоголосья – разные языки, культуры, разные части света.
И все это нужно держать в своей бедной голове – соблюсти десятки условий...
– Ну да, из-за чего масштаб и значимость теряются.
Как вы думаете, эти люди, решающие судьбу премии, самой престижной в мире, понимают, с чем имеют дело? Или как однажды в Каннах, где в жюри заседали пять китайских артисток, которые были вообще не в курсе дела – они и историю кино не знают. Контекст то есть. Да хоть какие, хоть американские – те тоже не знают кинематографа Европы, не говоря уже об Азии. Тем более – у китайцев громадное кинопроизводство, и они не понимают других стратегий. Ну и сидят эти куколки, ни фига не понимая, смешно. А решает председатель жюри. Я считаю, что в жюри Нобеля, так же как и в жюри Канн, непременно должен быть критик. Литературный или кинокритик. Как вы думаете?
– Да уж. Подозреваю, что у них действительно весьма опосредованное понимание контекста. Непонятно даже: откуда оно у них берется?
Если вообще берется...
– Может, среди них есть какие-то эксперты? Но это явно не практикующие люди, которые держат руку на пульсе. Скорее всего, академический уклон ближе к...
Университетской профессуре?
– Возможно. В общем, мы этой кухни не знаем. Но по результатам видим, что критический резонанс здесь почти отсутствует.
Как получить Нобелевскую (руководство)
Наверно, что–то учитывается все же?
– Количество переводов, как я понимаю. Публикаций, промежуточных премий и пр. Хочешь получить Нобелевскую, получи сначала с десяток других, благо в мире их хватает. Причем, получить нужно не в одной стране. Ну или ты совпал с ожиданиями разнообразных жюри, и тебе само все в руки идет... Как–то так. Меня однажды спросили поклонницы одной нашей российской поэтессы – как ей добраться до Нобелевской? Наверно, публиковаться в Париже и Лондоне – ответил я, далее везде. Ну и со временем...
...И еще нужно всем угодить. Быть толерантным, таким-сяким, желательно беречь природу и защищать малых сих, быть правозащитником (или «левозащитником», я уж и не знаю) и так далее. Быть очень, так сказать, левым – от правых тоже, правда, тошнит. Исповедовать новейшие тренды и пр. А то скажут, что ты пишешь «литературу зла», как Жене. Нехороший человек был, кто бы спорил.
– Ну, до такой остроты у них пока не дошло, как я понимаю. Хотя да, с одной стороны – осторожность, а с другой – стремление к актуальным тенденциям вроде нового феминизма и пр. Вот туда их и влечет. Но пока все же не совсем так. Для них это чересчур радикально.
Ничего, дойдут и до этого. Где наша не пропадала.
– Лет через 10 – 20 – 30, не сразу. К этому времени нынешние активисты литературно-политического движения станут глубокими пенсионерами, и все это, возможно, перестанет быть актуальным. Но, в общем, да... Что там говорить... Действительно, премия, от которой мы привыкли ждать исторического масштаба события или признания литературного явления, которое в состоянии разбудить человека, заставив его пережить сильное художественное и духовное потрясение, – да, с этим дела обстоят так себе. Не та задача у них.
Дождемся ли мы каких-то изменений?
– Боюсь, даже если да, то очень ситуативно и в порядке исключения. Но все же я так резко критически не судил бы. Ведь иногда что-то все же получается.
Например?
– К примеру, выбор Светланы Алексиевич. Вот это убедительно.
Да. Интересный выбор, согласна. Безошибочный.
– Притом что иными это было воспринято как выход за пределы литературы. Тут все интересно: ведь это действительно нестандартное явление, хотя ее проза – вполне традиционная литература. Явление нового журнализма, как у Капоте, например. Да и у других американцев.
Эта его проза-док – «Беспощадное убийство», например, – гениально сделана.
– Не поспоришь.
А ведь написано как хроника... Весь роман описывается, как искали убийц, якобы нудно и последовательно, а при этом не оторваться.
– Это правда. Вот и у Алексиевич как-то все сошлось. Именно она, как бы уже напоследок, завершила этот сюжет – еще и тем, что ее признали Нобелевским лауреатом.
Инвалидность духа
Какой сюжет?

Герта Мюллер
– Начатый, вероятно, Пастернаком и продолженный Солженицыным, а затем и Гертой Мюллер, тремя Нобелевскими лауреатами. Так сказать, постутопический. И у нее он обнаружил черты непреодоленной инвалидности духа у человека, травмированного утопией. По-своему и Герта Мюллер – об этом. Кстати, после ее награждения я сказал где-то, что тема, вероятно, закрыта, и никто уже не получит Нобелевскую – из тех, кто пишет в таком духе. Но у Алексиевич получилось. А скажем, Фазиль Искандер, который тоже писал о формировании и разложении утопии, не получил. А мог бы – при счастливом стечении обстоятельств. Но его мало переводили за пределами страны, да и за границей почти не награждали. Может, ему не хватило той остроты, которая бы обратила на себя внимание еще в советское время...
Какого рода?
– Ну, например, готовности к публичному нонконформизму, чтобы иметь репутацию в мире.
В ином случае он бы был идеальным кандидатом?
– Думаю, да. Но у него еще и формат повествования достаточно традиционный. И Алексиевич изображала современного человека с его посттравматическим синдромом, с его непреодоленной утопией. У Искандера все же люди двадцатого века – люди, считайте, отдаленного прошлого. Хотя вроде бы он пишет и о постколониальном человеке, но все же с иным, не столь острым и актуальным поворотом, как, скажем, Абдулразак Гурна.
В пропасти между культурами
Вот Гурна и получил. Как написано в Википедии... Минуточку, справлюсь... Ну да, вот официальное определение – «За бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами».
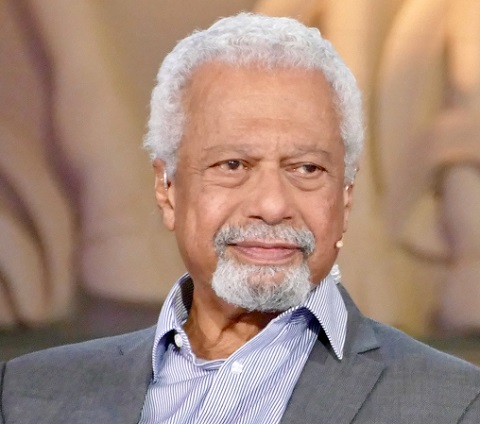
Гурна Абдулразак
– Именно. За исследование современного человека, который наследует колониальный опыт своих предков. Как я понимаю, его персонаж, да и сам он тоже, – как бы связной между бывшей колонией метрополии, – травмированный опытом жизни и в метрополии, и тем, что не может себя найти. Ни в Азии, ни в Англии, да нигде...
Прямо как я. Все время в поисках самоидентификации.
– Ну да. И в этом смысле Гурна сегодня убедительнее выглядит, чем Искандер.
Новый Чехов?
Денис Драгунский, с которым у меня тоже было интервью по поводу Нобелевской, смешно сказал – шведы, говорит, молодцы, что присвоили себе право присуждать главную литпремию мира, хотя, что у них там есть? Нобель и Стриндберг, маловато все же. Ну, он беззлобно так, шутит как бы. А насчет последнего лауреата, Фоссе, как он вам? Его же только в переводе можно читать, он же на диалекте пишет?
– Я посмотрел его пьесу, их несколько, но в интернете доступна одна. Наиболее доступная, остальные искать не стал. Я понял принцип – он пишет о таких, по сути, дисконтактных людях. Одиночество, помноженное на безуспешные попытки построить мосты между людьми, которые тут же рушатся. Такой как бы пост-Чехов... И одновременно пост-театр абсурда. Как это сыграть в театре? Хотя играют, его даже и здесь, в России, ставили. Оказывается, спектакли по его пьесам показали на фестивале в Петербурге, я задним числом узнал. Даже интересно – посмотреть, какой резонанс они вызывают у российских зрителей.
Сейчас и не такое ставят – смотря как сделать.
– Да, интересна реакция зрителей. Ведь это сильно отличается от мейнстрима... Но по одной пьесе все-таки трудно судить. Хотя в мире его широко ставят и как драматург он все какие ни на есть премии получил.
...Я немного осердилась, когда в соцсетях начали поливать этого Фоссе, хотя ничего у него не читали и не видели. Какой-то, пишут, перец, никому не нужный. Но ведь и об Алексиевич так говорили – типа интервью берет, расшифровывает и думает, что это проза. Люди не понимают, что такое организация текста, тут с интервью-то намаешься. Ну а проза-док порой посильнее будет, чем не док.
Непреодоленная травма
– Конечно! Никто масштабнее ее не представил нашу травму – непреодоленную травму постсоветского человека, который так с ней и не справился. В 13-м году, когда вышло «Время секонд хэнд», мы думали, что это страшно, но все же не столь фатально. А оказалось, еще более фатально, чем мы ожидали.
Когда получила Елинек – за вклад, насколько я помню, я была потрясена. Мне показалось – притом, что я в переводе, конечно, читала, Белобратов перевел блестяще, – мне показалось, что она изымает новые возможности немецкого. Он в ее руках стал не таким строго классическим. Это просто потрясающе. И когда она получила, так совпало, что у меня было интервью в Каннах с Михаэлем Ханеке. Ну, я обнаглела и говорю ему – мне кажется, что с победой Елинек вектор культуры сдвигается в Австрию, как думаете? Он так обрадовался (даже странно было, я их всех боюсь до смерти, интеллектуалов этих европейских), что именно немецкий может порой определять мировой вектор культуры.

Эльфрида Елинек
– Это да, вполне заслуженно. А вот к Токарчук у меня есть вопросы...
А к Шимборской?
– Понимаете, мне трудно судить о поэтах, пишущих на языке, которым я не владею. Хотя поэтам редко дают – пару лет назад дали Луизе Глюк, поэтессе-американке, которая только что умерла.
Да, в октябре. Ее очень хвалят, но нам, наверно, трудно судить об англоязычной поэзии, даже если в целом владеешь языком. Моя подруга, американка и профессор-славист, которая по-русски говорит, как мы с вами, никак не могла понять строчку «в том для чего не знаю слова...». При этом сорок лет занимается Россией и русским языком...
Трагедия хантов
– Это так, да. Но что касается прозы, она как раз почти всегда связана со значительной темой. А вот по поводу Дилана... Может, это действительно не слишком убедительно... Не знаю... Но повторюсь, что касается прозаиков, то у них связь с каким-нибудь важным мировым трендом все-таки нужна. Тот же постколониальный дискурс, например... Это важно, очень важно. Что же касается современной России – вы, может, знаете эту историю с Еремеем Айпиным?
Что-то слышала...

Еремей Айпин
– Мне нравится его история, забавная. Это хантский писатель, пишущий на русском, – а человеком он всегда был, прямо скажем, насквозь советским. Но в постсоветский период написал роман «Богоматерь в кровавых снегах», посвященный восстанию хантов против советской власти, жестоко подавленному в начале тридцатых. Написан роман на русском и, поскольку ханты теперь – Западная Сибирь, а денег там очень много, кто-то решил его двигать на Нобелевскую. Но ведь нужен резонанс, не так ли? Окей, издали в Ханты-Мансийске монографию о романе, перевели его на английский, хотя по-русски Айпин пишет плохо. Но хантыйского литературного языка так мало, что практически, считай, нет. Такой вот казус. Зато тема была важная, и потому механизмы раскрутки, по идее, должны были заработать. Он ведь случайно выживший хант, рассказавший о трагедии своего народа, – какая тема, чувствуете? Какой-то французский профессор о нем написал статью. Но на этом все и заглохло.
Айпин там номенклатура какая-то, я что-то о нем читала, вспомнила. Должности всякие занимает и какую-то чушь несет в советском духе.
– Это да, советский такой товарищ, я же говорю. Чтобы его раскрутить, нужно слишком много средств, да и ему самому надо было предпринять гигантские усилия. Само по себе не получится, а стимулов, вроде перевода на английский и отзыва французского профессора, недостаточно. В общем, снежного кома, который бы покатился по планете с мировым резонансом, не получилось.
Тема трагическая, а писать не умеет. Какие можно предпринять усилия, чтобы вдруг научиться писать? Это же невозможно. Сегодня ты, скажем, блогер в Одноклассниках, а завтра кто? Маркес, что ли? Так не бывает. Но тему жаль... У Айпина получился так называемый тематический подход, как раньше говорили... Хотя миру неплохо бы узнать об этом, я вот раньше слыхом не слыхивала об этом восстании, при том, что помешана на сталинских репрессиях и все что ни на есть читаю об этом.
– Все могло бы случиться. Хотя так, конечно, не бывает. В интернете его роман есть, взгляните.
Попробую.
Истоки травм
– Острый персональный опыт с разного рода истоками травм, особого рода нервность, меланхолия, как я понимаю, приветствуется, ибо это связано с самоощущением современного человека. С того момента, когда он резонирует, выходя, так сказать, за пределы любых государств и культурных границ. По идее так... Это современно, потому-то многие авторы, получившие Нобеля в XXI веке и даже в конце прошлого века, обладали этим нервом...
А это не может превратиться в пародию, в мейнстрим – ах, как я переживаю, меня одноклассник в подъезде зажал, сорок лет как не сплю, кошмар. Так?
– Ха-ха-ха! Нет, истоки травматизма все-таки могут быть разными. Могут – социальными, вот как у Герты Мюллер, с ее этно-социальными переживаниями.
У Елинек, мне кажется, это глобальнее. Хотя и у Герты тоже хорошо, естественно, как дыхание. Но ведь сами понимаете, мы все дико травмированы, кто чем.
– Получается, да. Вот Алексиевич, которая сама внутренне чрезвычайно гармонична, очень гармонична, но понимает чужую травму...
Да, это громадная личность. Сделать такое духовное усилие, пронести травму через свое сердце, будучи взвешенным человеком, – это дорогого стоит. Даже читать это тяжело, не то что писать...
– Да. Если это транспонировать – появись на горизонте такой писатель, который обогащает и усложняет, насыщая актуальными обертонами, – мы получим нечто такое, чего у нас до сих пор не было. Может, нечто грандиозное. Из того, что я читаю, пока что такой масштаб не просматривается. Есть интересные, любопытные, забавные, умелые и всякие разные писатели. Но...
Башевис Зингер был таким – человеком, переработавшим травму европейского еврейства в великие рассказы... С непреходящим, как писали в советских предисловиях, мастерством.
– Это да, не поспоришь. В отечественной культуре, и это наша проблема, личностная значительность слабее представлена, чем прежде. Возможно, это не только наша, а мировая болезнь. Но там все же есть исключения...
А ведь и здесь были Толстой, Бродский, Пастернак...
– Что и говорить, такого грандиозного личностного взлета, какой был в первой трети XX века, у нас пока не наблюдается...
Ну а Трифонов?
– Да, да... Или Домбровский, Шаламов...
Румяный критик мой
...Я уже говорила, что читаю вас ежедневно, и – может, я неловко выражусь, – вы всякий раз делаете такой заход, который мне лично очень близок. Это не разговор о трендах, пусть даже и актуальных, что тоже важно, а об истинных, как раньше говаривали, ценностях. Мироздания, не меньше. Выраженных через литературу, слово. Это вопросы трансцендентные, то бишь превышающие и злобу дня, и вообще все временно актуальное. На мой непросвещенный взгляд, в литературе, которая ногами упирается в действительность, а головой касается неба – как, впрочем, и всякое искусство, – это и есть главное. Так вот, понимают ли вас? И влияет ли критика в целом на лит. процесс?
– Как там у них, в англоязычном мире, мне трудно судить. Но вообще-то во Франции, в Германии или в Скандинавии существуют литературные издания, где ведутся постоянные дискуссии – и резонанс, между прочим, весьма пестрый и разнообразный. Это все, конечно, необходимо. Для литературы, для писателей, для поэтов.
А в России как с этим обстоят дела?
– Здесь не сложилось. В позднесоветский период все же были успешные критики – ну, скажем, тот же Анненский. Да и то не уверен, что они и тогда влияли на литературу. Но у них хотя бы был читатель, и довольно широкий.
В девяностые – Немзер?
– Да. Да и ситуация тогда была такова, что критику, уже из последних сил, удавалось произвести впечатление и собрать аудиторию. В наш век эта ситуация завершилась. То есть аудитории читательской у критика нет. Но и критического сообщества, которое бы что-то определяло, тоже нет.
Как сказать, вас же читают в соцсетях, я вижу?
– Ну, это немного, скажем прямо. Вокруг высказываний в сетях содержательные литературные споры возникают крайне редко. Я бы предпочел, чтобы меня агрессивно воспринимали, а не с этим нежным касанием. Или не очень нежным, но всего лишь касанием. Точно так же современное литературное поколение не приучено воспринимать критиков как реальных собеседников.
И как часть реального литературного процесса...
– Если их хвалят, это замечательно, так и должно быть. А не хвалят – дурак, и пошел бы он вон. Когда-то, в начале века, я призывал молодых литераторов осознать себя литературным поколением, сформировать представление о себе, заявить о себе каким-то образом... Ну и понял, что меня просто не слышат. Что они абсолютные индивидуалисты, не готовые к диалогу. Ну ладно, индивидуалисты – и хорошо. Но если бы при этом их внутренний мир представлял бы собой ценность... Правда, какие-то явления – я бы сказал, симптоматические, связанные со злобой дня, – мы все же видим.
Подъем есть, да...
– Да, такой как бы странный. Расцветом это трудно назвать, но...
Вы о поэзии последнего времени? Самого, скажем так, последнего?
– Да. О русскоязычной поэзии последних двух лет. Связанной с исторической катастрофой, которую мы все переживаем.
Спасибо за беседу. Мне лично было очень интересно – посмотрим, что скажет наш требовательный читатель. Или даже нетребовательный, ему угодить – вот где высший пилотаж. Это я смеюсь так, не без горечи, правда.
фото: из личного архива Е. Ермолина















