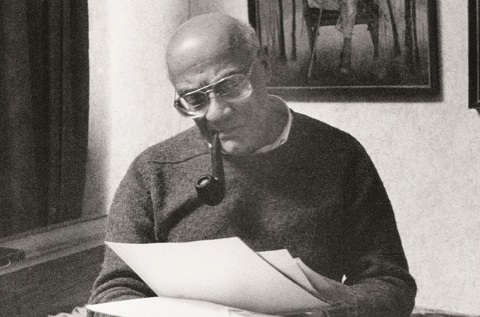9 ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Фима Фогель подполз к юбилею.
Жил, жил - и на тебе: 60 лет. С наивностью провинциальной тетушки из довлатовского рассказа, он обнаружил свои годы, как Неву в Ленинграде, и сильно изумился: «Что вдруг?»
Получив в 74-м году в Московском педагогическом образование филолога, Фима не пошел в школьные учителя. Отец, Роман Давидович, фронтовик, член компартии, после смерти и разоблачения Сталина стал считать себя глубоко законспирированным антикоммунистом. Впрочем, это не имело существенного значения в его многолетней работе редактора в издательстве «Недра».
Отец умер за три года до диплома. Он не дождался ни внуков, ни возможности уехать в Америку, о которой говорил дома полушепотом, как о несбыточной мечте всей его послевоенной жизни.
«Далась тебе эта Америка! - изумлялась жена. – Я еще понимаю «Израиль», но и там мы никому не нужны с нашими советскими привычками. Фимина мама Ева Карловна, женщина светлого ума и стоической покорности судьбе, сидела всю жизнь на нищенской зарплате в литчасти известного московского театра. Читала унылый графоманский самотек, но, благодаря нескольким литературным жемчужинам, обнаруженным ею в тоннах ила и мусора, парадоксальным образом сохраняла любовь к своей работе.
Голос предков, в числе которых были не только бедные местечковые ремесленники и портные, но и рачительный белорус-крестьянин по дедушкиной линии и даже затесавшийся в родословную поволжский немец по линии маминого дяди, - голос этот нашептал юному выпускнику пединститута, что:
- 75 рублей в месяц – не те деньги, на какие он соорудит сытую советскую семью;
- 75 рублей в месяц – издевательски мало за те суровые испытания, которые уготованы ему лоботрясами - учениками в их неистребимом желании говорить и писать как угодно, только не по правилам русского языка;
- 75 рублей - не хватит на книги, а без них он себе жизни не представлял. Последние жалкие гроши он безрассудно спускал на знаменитой в те годы московской книжной толкучке у памятника первопечатнику Ивану Федорову.
Фима накрапал в комсомольскую газету заметку о молодой парикмахерше, вложив в ее речь правильные слова о победе коммунизма. Это принесло двойную радость. Газета, оценив слог, предложила полставки корреспондента, а идейная девочка отблагодарила автора на узкой койке окраинного московского общежития. Благодарила столь ретиво, будто лидировала в беге с барьерами, отделяющими их обоих от лазурного коммунистического завтра.
Фима осознал перспективы вдохновенного журналистского труда. Не прошло и полугода, как ставка сделалась полной. Гонорары бодрили. Герои очерков и интервью становились рангом повыше, а героини все чаще привечали юного черноглазого брюнета с орлиным, как им казалось, носом.
Нос был все же еврейский. Но еврей был орел.
К 72-му году Фима уже покинул свою журналистскую колыбель и переместился на договор в отдел информации солидного тиража городской молодежной газеты «Московский Ленинец».
Он писал в разных жанрах, легко и доходчиво. У него не было проблем, кроме одной: парня тошнило от вынужденных идеологических штампов. Его мучила совесть.
Чтобы удержаться хотя бы в этом статусе при его «пятом пункте», он не мог время от времени не ввинтить в текст какую-нибудь актуальную цитату из постановления партийного съезда или речи генсека Брежнева: это подразумевалось самим статусом газеты. Если избегал он, помогали старшие товарищи с верхних этажей: на одном из этапов редактуры Фиме впендюривали в текст какую-нибудь тоскливую «закавыченность» из очередной актуальной речи партийного или комсомольского мудреца. Поди возрази…
Автор прочитывал собственную заметку в свежей газете глазами порядочных ребят, интеллигентов, нескольких близких друзей, с которыми иногда откровенничал на тему пасмурной совковой жизни. И кого обнаруживали единомышленники на газетной полосе? Сервильного конъюнктурщика на службе у режима. Пусть в нескольких строках и цитатах, но он все равно предавал те ночи истины, что проводил на кухне при тусклом свете лампы над крамольными текстами Солженицына или Оруэлла, охваченный сладким ужасом постижения Великой Лжи и Крови, в которой барахтался огромный народ.
У Фимы был редкий и досаднейший недостаток для журналиста тоталитарной поры: совесть. Она не то чтобы причиняла душевную боль. Она досаждала, ныла, занудствовала. Фиме становилось все противнее, он комплексовал.
Впрочем, генетически унаследованный навык мимикрии и успешной ассимиляции в кислотно-щелочной среде подлой жизни все равно не отпустил бы молодого писаку из рядов партийной прессы, тем более, что маячили варианты специализироваться на коротких информашках или, например, спорте. Но еще более древний иудейский инстинкт опасности подсказал: папа-покойник был прав и пора сматывать удочки. Некоторые события тому способствовали.
Любимая родина, про которую филолог Фогель много чего прочел за ночным кухонным столом на «слепых», трудно читаемых машинописных листках самиздата, решила пристальней приглядеться к носам и паспортным данным представителей творческой и научно-технической интеллигенции.
Родина в очередной раз обнаружила, что советский патриотизм, а также миролюбивая политика партии и правительства не всегда останавливают евреев, и даже полуевреев, четвертьевреев и косивших под евреев чистокровных славян в их безрассудном, самоубийственном порыве в сторону Земли Обетованной или за океан. Даже еврейская жена или муж стали средствами доставки в Рим, а оттуда в аэропорт Бен - Гурион.
Власти устроили большой совет. Лидеры компартии (а другой, как известно, и не было), умудренные опытом борьбы с предателями дела социализма, смекнули, что этих отщепенцев совсем не выпускать невозможно. Нельзя же построить вокруг посольства Нидерландов, где принимали заявления, стену вроде Берлинской! А стрелять или разгонять дубинками безоружных иудеев, мирно бредущих от метро всего лишь с анкетами под мышкой, тоже как-то несолидно: мировая общественность и все такое…
И разослан был сверху негласный циркуляр. Точнее - руководство для отделов кадров: этих, с носами и пятым пунктом, на работу не принимать, в должностях не перемещать, но и со службы не увольнять, пока сами не засветятся.
Фима, прознав про циркуляр, всем сердцем поверил в первые два тезиса… Но «не увольнять»… Фогеля терзали сомнения. Да и редактор их отдела информации, дородный улыбчивый дядька Тимофей Иванович Вирин, с какой-то чекистской пристальностью стал поглядывать на Фиму, продолжая, впрочем, почти без правки ставить в номер его всегда живенькие и безупречно грамотные материалы.
Уезжать не хотелось. Молодая жена Юлька, которой Фима обзавелся по любви после утомившего кочевья по койкам столицы, а также одинокая мама и пара близких друзей совершенно не располагали к перемене мест. Не говоря уж о жилищном кооперативе на окраине города, где приобретала законченный вид скромная, но своя двухкомнатная квартира, – Юлькины родители помогли с первым взносом.
Но Фогель печенью чуял: все равно прогонят, а то и репрессируют. Негласная охота на евреев уже началась. Не стоит ждать ничего нового от наследников Ленина - Сталина – Берии. Прижмут - мало не покажется. Рано или поздно. Деваться некуда, надо вступать в партию, славить, поддерживать и одобрять. Надо служить режиму и быть на виду, давя свои комплексы кованым сапогом целесообразности.
Фима невзлюбил сапоги еще со времен студенческих военный сборов. Он ненавидел что-то в себе давить, если это что-то он сам не считал постыдным пороком. Тогда-то и сформулировал для себя технологию проживания и выживания в стране, где жить неуютно, опасно, но почему-то хочется. Ничего хитрого и оригинального эта технология не открывала. Она зиждилась на трех постулатах: не высовываться, не вмешиваться, не унижаться.
Сделав нехитрое логическое умозаключение, что если не высовываться и не вмешиваться, то не придется и унижаться, Фима решился. Для начала разорвал договор и уволился из газеты. Начальству объяснил: сочиняет повесть о молодых целинниках, а совмещать не выйдет. Ему не поверили, но отпустили с миром, оценив благородство будущего эмигранта, не пожелавшего подставлять под неприятности своих начальников, коллег и кадровиков. Надо понимать, что за сотрудника – еврея, избравшего историческую родину, его шеф и шефы его шефа имели крупные неприятности.
Фима действовал расчетливо. Он уходил из-под политики, идеологии, ритуального регламента, предполагавшего полную лояльности власти. Он эмигрировал в частную жизнь, в своего рода частное предпринимательство – разумеется, в доступных на то время формах и пределах. Придумал себе на ближайшие годы сценарий, следуя которому, можно никуда не уезжать, кормить семью и иметь свое дело в свое удовольствие. А там видно будет.
Через месяц Фима дал первый частный урок русского языка и покинул квартиру юного лоботряса с пятью рублями в кармане.
Еще через неделю рыжий Славка, приятель и почти ровесник, но уже редактор последней, развлекательной полосы бывшей Фиминой газеты, получил от Фогеля приветственный звонок. Прозвучала скромная просьба посмотреть кроссворд, составленный на досуге хорошим, но безработным парнем, с которым, бывало, выпивали и болтали о разном.
Дело в том, что еще в старших классах школы ученик Фогель, будучи круглым отличником и безумно скучая на уроках, украдкой отгадывал кроссворды, а потом и составлял их с удовольствием, обнаружив в себе еще и такие способности.
Посланный Славке кроссворд оказался безупречным. Точно на аудиторию, никаких ляпов, идейно стерильный, как марлевая повязка в кремлевской больнице.
Кроссвордист Алешин, три месяца халтуривший по трудовому договору, позволял себе поначалу мудреные вопросы, в том числе и политически сомнительные. После Славкиных замечаний перешел на крайний, издевательский примитив, а недавний вопрос «Органы ходьбы у человека», четыре буквы, начинается с «н», окончательно вывел редактора из себя.
Алешин был отставлен, а добрая душа Славка выхлопотал для Фимы трудовое соглашение. Наверху снизошли, не видя опасности даже в случае, если Фима решит уехать: ну, подумаешь, внештатник на соглашении, какие-то кроссворды, да к тому же без фамилии на полосе.
Все! Фима стал анонимным работником, заочно и безвестно для читателей работающим на развлекательно–познавательной стезе.
Образовалась ниша, нора, куда не подтекало из политического русла. Зато, в дополнение к частным урокам, капало в карман. Сперва совсем чуть-чуть. Но что за газета без кроссворда!? На это был расчет.
Потихоньку Фима начал вбрасывать свои кроссворды, а потом и чайнворды, сканворды и прочие словесно-графические упражнения для ума и безделья в издания разного профиля, от политических газет до ежеквартальных пособий по сельскому хозяйству, охотно потакавших склонностям читателей к такому способу гробить время, ширить знания или самоутверждаться. Где-то он печатался в очередь, где-то предлагал новые для издания формы, и проходило.
Фогель быстро набил руку и выпекал продукцию с конвейерной скоростью кондитерской фабрики. Он обзавелся всеми энциклопедиями и словарями, какие только были доступны в те аскетичные времена цензуры и дефицита. Природная память ассистировала безупречно. Эрудиция достигла головокружительных высот. Иногда она перла наружу в виде названий каких-то подвидов млекопитающих или звезд в созвездиях, про которые знали только продвинутые астрономы и тамошние жители.
Но составитель наступал на горло своим порывам и всегда был адекватен уровню аудитории конкретного издания. За что ценился все больше. Ширился и круг балбесов, приезжавших на частные уроки. В итоге, он зарабатывал все лучше и лучше. Так продолжалось все эти годы.
Жизнь удалась! Она подошла к юбилейному (а если формально – пенсионному) рубежу с банальной скоротечностью. Но в это весеннее утро, лежа в постели и предвкушая особый праздничный завтрак, творившийся Юлией Павловной на кухне, Фима в которой уж раз воздал себе хвалу за давнее смелое решение струсить, затаиться, уйти в тень. Оно определило судьбу. Уберегло в застойные советские времена, потом и в новые. Да и теперь, когда на очередном витке развития демократии Родина вновь намекнула журналистам на необходимость жертвенно попридержать язык во имя торжества новых судьбоносных реформ, Фимина позиция гарантирует ему пищу и свободу. Свободу в рамках осознанной необходимости «сидеть тихо, никого не трогать, починять примус» - любимая цитата Юльки из «Мастера и Маргариты».
Политические встряски, перестройки, перестрелки, разборки, все эти кризисы и дефолты, войны бандитские и прочие - весь пафос и ужас очередного российского прорыва в цивилизацию словно бы угадан был Фимой Фогелем в тот давний день, заветный час молодости, когда он нырнул в свою расщелину. С той поры он занимался любимым делом. Грохот и абсурд взбалмошной жизни, творившейся за окнами его кабинета и на экране телевизора, блаженно приглушался ощущением внутреннего покоя. Он оставался погруженным в свои тихие игры со словом. Ничто не отвратило народ от пристрастии к заполнению буквочками максимального количества клеточек.
Не скопив особых богатств, Фима, тем не менее, вскормил и выучил сына, имел устаревший, но все еще ходкий автомобиль «Жигули» модели 2106, уютно обставленную квартиру и еще кое-что за душой.
Он по-прежнему давал школьником уроки, составлял, уже с помощью компьютера, кроссворды, позволяя себе авторскую подпись лишь в двух солидных СМИ, сотрудничал с редакциями телевизионных игр, издал краткую энциклопедию «Игры слов» и считался в узком кругу посвященных весьма почтенным специалистом в этой области развлечений.
Он не нажил себе врагов. Его уважали конкуренты. Его покладистый нрав в сочетании с крайней осторожностью, безграничной компетентностью и профессионализмом отводил его, как надежный лоцман, от опасных рифов. А мелкие неприятности – у кого ж их не бывает…
Юбилейный день выпал на субботу, 20 апреля. Утреннее солнышко, нечастый апрельский гость столицы, приветствовало Ефима Романовича Фогеля через просвет оливковых штор его уютной спальни – она же кабинет. «Как обещало, не обманывая, проникло солнце утром рано косою полосой шафрановою от занавеси до дивана…» - начал было про себя декламировать Фима, но осекся, вспомнив, что это стихотворение обожаемого Пастернака приводит лирического героя на кладбище, о котором в такой день думать вовсе не хотелось.
Хотелось поваляться и повспоминать. Но привычка вставать рано и нестерпимый аромат кофе, доносившийся из недр квартиры, вогнали Фогеля в махровый халат и препроводили на кухню.
Юлька.
(«Это ты, моя славная девочка, с двумя островками сединок на висках, слегка округлившимся лицом, милыми морщинками у глаз и от уголков рта,- ты входишь ко мне, раскрыв объятья! Любишь меня, пентюха, все эти тридцать пять лет. Пусть уже другой, безмятежной, родственной, материнско-сестренской, опекающей, благодарной, дружеской любовью, - ты идешь поздравить и поцеловать в нос и потом в губы, в этой странной и всегда умилявшей меня последовательности»).
Серебристая подарочная упаковка интригует. Восторг: компактный магнитофон, проигрывающий DVD –диски и записывающий на них. Куча денег, наверное. «Одолжила у сына Сашки или выщипывала из семейного бюджета?»…
…Теплые Юлькины губы, чуть потускневшая синева глаз… Видит - понравилось… Рада…
«И я счастлив, что ты со мной. Сейчас ударюсь в слезу. Старый сентиментальный слизняк…»
На столе расположился дивный Юлькин «оливье» и любимые пирожки с мясом по рецепту покойной тещи Клары Петровны. За этот шедевр с чуть сладковатым тестом Фима прощал даже ее фантастическое занудство и неистребимую тягу научить их с Юлькой жить «как все люди». Снисходительность давалась непросто: престарелая Клара Петровна (царство ей небесное!) последние пятнадцать лет перед кончиной почти не выходила из дома и мало с кем общалась ввиду крайней слабости тела, слуха и зрения. Соответственно, ее осведомленность о жизни людей корнями уходила в послевоенное лихолетье.
Рядом с кофейником Юля заботливо положила утренний номер «Мысли» последней полосой кверху. Там должен быть новый кроссворд и ответы на предыдущий, что был в среду. Юлька делала приятное: Фогель давным-давно не перечитывал свои «произведения», коих насочинял тысячи, но любил удостовериться, что все на месте. А сегодня так и вовсе особый случай. Редакция расщедрилась на короткое поздравление по случаю юбилея в подвале полосы. Заголовок вышел малость вычурный: «Ефим Фогель: «Жизнь – это бесконечный кроссворд…»
Далее текст:
«Таково любимое изречение нашего постоянного многолетнего автора Ефима Романовича Фогеля. Сотни его кроссвордов помогают нашим читателям расширить кругозор и полезно провести часы досуга. Редакция поздравляет Е.Фогеля с 60-летием и желает ему творческих успехов».
Миленько! Скромненько! Стереотипненько, но все равно приятно! Давным-давно не пробуждавшееся тщеславие вдруг встрепенулось, пощекотало самолюбие, впрыснуло крови в капилляры щек. Вот она, та оптимальная степень публичности, на которую сегодня готов был Фима после стольких лет «явочной», лабораторной, чаще безымянной работы на специфической журналистской стезе. И славно! Что еще надо, чтобы спокойно встретить старость, как говорил Абдулла из «Белого солнца пустыни», - Фогель обожал этот фильм и пересматривал всегда, когда тот объявлялся в телепрограмме.
Слегка разволновался… Вовремя Юлька ушла к себе в комнату прихорашиваться. Таблеточка от давления заботливо краснела рядом с желтой витаминкой в круглой пластмассовой коробочке – Юлька никогда не забывала пополнять ее.
Фима придвинул коробочку, подцепил таблетку. Сквозь прозрачное донце, оказавшееся как раз над разделом «Ответы на кроссворд, опубликованный 19 апреля», померещилось нечто. Фима отодвинул коробочку, пригляделся и замер с зажатой между пальцами таблеткой, так и не донеся ее до языка. Он смотрел на слово под номером 9 раздела «По горизонтали», как внутренним взором разглядывают галлюцинацию, с интересом ожидая, когда же она сгинет.
Слово не таяло, не исчезало как симпатические чернила на свету.
Слово реально торчало в тексте ответов с дикой нелепостью и неуместностью. Такого слова здесь не могло быть, потому как при нынешнем политическом климате в России его не могло быть в принципе, ни при каких обстоятельствах в кроссвордах вообще, а в фогелевском – тем более.
Это слово было фамилией. Той фамилией, которая в последние два года, после избрания нового главы государства, появлялась на газетных полосах и в телерепортажах крайне редко, куда реже президентской, но вызывала трепет и уныние у всех, кто еще не расстался с мечтами о демократии западного типа.
Слово было фамилией председателя ФКП, Федерального комитета правопорядка. Комитет учрежден был парламентом, президент подписал. ФКП стал единой крышей большинства силовых ведомств, ранее действовавших в стране. Создавалось впечатление, что только народные дружинники почему-то не вошли в подчинение новоявленному монстру.
Фамилия принадлежала человеку, могущество которого, как все понимали, простиралось в чем-то даже дальше и глубже президентского.
Это был самый охраняемый после президента, самый опасный человек в стране. Молва приписывала ему незаурядный ум и характер деспота.
МУДРИК. Федор Захарович МУДРИК.
Фима усилием воли заставил себя встать и двинуться к полке, где поверх стопки лежала трехдневной давности «Мысль». Он с последней надеждой бросил взгляд на вопросник кроссворда, на определение под цифрой «9», хотя прекрасно помнил, как оно звучит. Фима сам не понимал, на какое чудо надеялся. Но чуда не случилось.
Составитель спрашивал у гадающего народа, как называется «грызун семейства беличьих, при опасности встающий «столбиком».
Фима загадал суслика. Две вертикали заботливо подсказывали вторую «у» (6. «Любимец публики» - «кУмир») и предпоследнюю «и» (10. «Знатный вельможа при дворе императрицы Анны Иоанновны» - «бИрон»).
Все сходилось на суслике. Но по буквам, словно в издевку, подходил и «мудрик». Фамилия была вписана с маленькой буквы, как и положено в кроссворде. Но это ничего не меняло.
Минута полной прострации. Страх впился в горло, перекрыл воздух и обездвижил. «Не может быть!», - постарался убедить он себя, не в силах оторвать глаз от клеток. Воображение, усиленное склонностью к черному юмору, преобразило решетку кроссворда в другую, совсем другую…
Мрачная самоирония помогла взять себя в руки.
«Идиот, при чем здесь ты! Какая-то сволочь в редакции перепутала или жестоко подставила. Но, слава Богу, сейчас не сталинские времена. Сейчас времена…- подходящее слово пришло как озарение… - времена компьютера».
Судорожно схватив газету, он оторвал от пола онемевшие ноги и, как на плаху, побрел в кабинет. Включил компьютер. Казалось, что колбочка превращается в курсор целую вечность.
Он давно все делал на компьютере. Специальная программа ускоряла и упрощала процесс, позволяя успевать к сроку сразу в нескольких изданиях. Она помогала с помощью нехитрых манипуляций превратить правильные ответы, вписанные в клетки кроссворда, в список, публикующийся через три дня. Не надо было набивать одно и то же дважды. Исключались ошибки. Компьютер перепроверял и без того параноидально тщательного Фиму.
Вот она, отдельная папка кроссвордов для «Мысли». Последний, 28-й. Составлен заранее, неделю назад скопирован и отослан.
9 по горизонтали. Ответы в самом «теле» кроссворда. Боже мой! «мудрик».
Спокойно, Фима, спокойно! Идем ниже. Ответы в перечне. Номер 9 по горизонтали.
«мудрик».
Электронная почта, раздел «Отправленные».
«мудрик»
«Я этого не писал», - пролепетал Фима Фогель и в бессилии опустился на ковер. Ему стало плохо, очень плохо.
(продолжение следует)