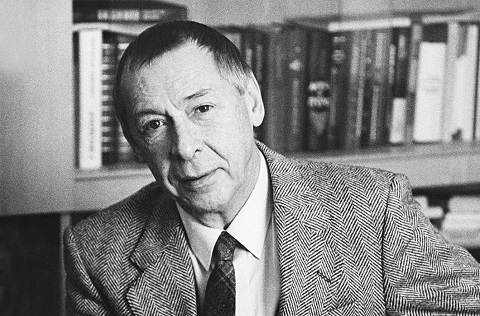Настал день, когда Славик-карлик приехал в общагу с Корваланом. Физические параметры Корвалана превосходили размеры комнаты. Славик вынул из полиэтиленового пакета с отпечатанным на нем портретом Джорджа Майкла веревку и показал на стул.
Я не думал сопротивляться, и Славик ловко привязал мои руки к спинке.
Корвалан хрустнул пальцами.
Славик завелся с пол-оборота:
— Где деньги, Саня?
— Я верну.
Последовала вспышка и соленая река во рту.
Дальше было почти не больно.
В полной тишине Корвалан лупил меня с обеих рук, а когда я рухнул вместе со стулом, бережно поставил его вместе со мной вертикально.
Больше Славик вопросов не задавал.
Перед тем как выйти, глянув на часы, он бросил:
— У тебя три дня, Саня.
И тут я потерял сознание.
Друг и сосед по комнате, Никита Глухов, меня отвязал, приговаривая:
— До свадьбы заживет. Спасибо, почки не отбили.
Рожу мне разнесло, как воздушный шарик.
Били меня тогда за триста баксов, которые я одолжил у однокурсника Славика, начинающего бизнесмена, чтобы снять в Кунцево квартиру Наташке.
Теперь в Каннах, тридцать лет спустя, стаи чаек распатронивают мусорный контейнер и гогочут насмешливо, поднимаясь все выше над черепичными крышами, огромные, как птеродактили. Сегодня Наташка возила нас в Мужан — милейший городок, тесный и уютный, на вершине холма, отданного когда-то для строительства монастыря. Виды из него — горы, море, лес, и здесь когда-то обитал Пикассо, полая голова которого — тщательно отлитая из бронзы в рост человека — стоит у въезда, в нее можно забраться и посмотреть сквозь глазницы художника на мир. Что Томас и сделал.
Томаса любят многие, и я в том числе. Ни на кого не похожий, с вечным конским хвостом, чуть всклокоченный, с хищным прищуром, необыкновенно проницательным, он прекрасно разбирается в людях, большинство из которых принимают его за чудака, но для понимающих толк в устройстве вселенной, он ничуть не смешон, а его живость с сумасшедшинкой вызывает уважение, смешанное с удивлением. С ним можно устать, но не соскучиться.
Физик-теоретик, профессор Лионского университета австрийского происхождения, ученый, чьи идеи еще со времен аспирантуры доступны лишь для считанных людей на планете, когда он всматривается в какую-то запредельную для разума теорию, он говорит — послушайте, но там что-то есть; не знаю, что именно, но истина там брезжит.
Так же случилось и с Пикассо, которого он привык не понимать, но теперь, когда оказался в Мужане и зашел в одну из галерей, населяющих этот городок-крепость, где перебирал листы с репродукциями обитавших здесь когда-то художников — он всмотрелся в фигуры одного из основоположников кубизма и пробормотал: «Что-то я тут все-таки вижу».
Триста долларов я вернул Славику бартером. На ректорском этаже у нас в институте была расстелена почти новая ковровая дорожка. Между лекциями Никита разрезал провода сигнализации входа на этаж, а после занятий мы заперлись на верхнем этаже главного корпуса, чтобы ночью спуститься, свернуть дорожку и выбросить ее за окно.
Пока мы несли по Долгопрудному тридцать метров красного ковра, нас настиг патрульный «газик».
— Откуда дровишки? — спросили напрягшиеся менты.
— Ковры выбиваем, — ответили мы.
— С трупом?
Вместе посмеялись и за десять мятых баксов нас отпустили.
К тому же Томас претендует на совершенный вкус почти во всем, кроме автомобилей, притом что едва ли читал Музиля, почти не слышал Малера, а это для вскормленного Веной человека провал, конечно, а когда спрашиваешь его: «Увлекает ли тебя все еще наука?» — получаешь в ответ: «Меня всегда всерьез волновали только женщины».
Томас - завсегдатай «Тиндера» и охотно рассуждает о женской природе, говорит, что у него, как у личности, есть ограничения, что он не конченый ловелас. Например, недавно он встретился с одиночкой — матерью троих детей, и то, что он увидел, как она унывает, знаете, такие потухшие глаза, погасшая улыбка-гримаса, «решил не совать свой пенис в чужие проблемы».
Томас в Каннах сравнил французов с котами, а итальянцев с собаками: «Французы осторожничают и сторонятся, а итальянцы неустанно добродушны».
Я познакомился с Томасом двадцать лет назад по переписке — он редактировал одну мою статью (тогда я еще писал статьи), направленную в журнал Physics Letters. Идея статьи оказалась толковой, и Томас выразился в своем духе: «В этом что-то есть». Я никогда не блистал самолюбием, и довольно робел поначалу, когда довелось с ним встретиться на семинаре по теории струн в Триесте. Мы подружились, болтали о науке, валялись на пляжах, шатались по горным тропам, и он не уставал приговаривать: «Саня, почему ты пьешь? Пожалуйста, сегодня не пей. Я никогда ничего не пью, кроме разве сладкого вина, мне нравится вкус, но я ненавижу опьянение». Потом мы не теряли друг друга из виду, хоть я никогда не понимал, как человек, переписывающийся с самим Виттенном, мог быть моим другом.
Я приехал в Канны, чтобы познакомить Томаса с Натальей, с возлюбленной моей юности. Пробывшая двадцать лет на попечении Резо, грузинского олигарха, Наташа променяла самостоятельность на беззаботность и получила в награду предательство: ее названный муж год назад объявил, что расстается с ней, оставляя ей сына (сын — студент в Лондоне), собаку и виллу в Каннах, в которой можно было заблудиться. Продав ее и переехав в крохотную квартирку, она пристрастилась к розовому вину, то и дело меняла психотерапевтов и подолгу выгуливала собачку. У английского спаниеля Никки от старости гнили зубы, и, как у клоуна, имелись следы под глазами, будто он рыдал годами. При этом песик был не кастрированный и метил все углы подряд, время от времени бросаясь на встречных кобелей. Это было похоже на попытки самоубийства. Вероятно, в Никке было что-то от его бывшего хозяина, которого я видел только на фотографиях.
Наталья тоже то и дело проявляла наклонности своего покровителя — от мелькающих в ее речи словечек из конца девяностых («давайте меня удочерим», «забили стрелку», «ненавижу разборки») до любви к грузинской кухне и языку. Однажды она холодно, но с долей отчаяния обронила: «Я встречалась с Резо недавно. У него опухоль в мозгу, три шунта в сердце и ясно, что этот человек нежилец».
Наташка умная и проницательная, высокая, с размеренной походкой и особенной статью. У Мопассана такие женщины, как она, заканчивают тем, что становятся на скопленные сбережения владелицами дешевых публичных домов.
В первый же день она шепнула мне о Томасе, что он — «профессор Чаплин», и я понял, что она задета его невниманием.
Как и с Томасом, мы с ней никогда не теряли друг друга из виду, примерно раз в год или в два писали друг другу обстоятельные письма о житье-бытье.
Мой второй брак разваливался не спеша. Все десять лет, пока были женаты.
Незадолго с детьми поехали в Париж. Дочь не пропускала ни одной карусели в городе, включая и ту, что у Эйфелевой башни. Ни один магазин сувениров не обходился без набега мной обожаемых чад. В конце концов я сказал жене: «Пора учить их воровать».
К вечеру дети начинали капризничать, и мы оба выматывались по полной.
На обратном пути в гостиницу мы ввалились в автобус, — пришлось бежать чтобы успеть. Я рухнул на сиденье, взмокший, обескровленный, и напротив себя увидел парижанку.
Вообще возвращение в Израиль из Европы — для меня всегда было возвращением Будулая. А вот француженки, я уже заметил, — порой очаровательны элегантностью: невиданными тканями, покроем, манерами, тонкой костью, но главное — выражением лиц.
Тогда произошло нечто поразительное. Эта красавица в автобусе напротив, лет сорока, она вся светилась чем-то тонким, каким-то фарфоровым светом, чуть усталая, внимательная, — нерешительно достала из сумочки носовой платок — и жестом и глазами спросила у жены разрешения протереть мне лоб.
Жена подняла брови. Но кивнула.
И вот это прикосновение шелка ко лбу я запомнил и не забуду уже никогда. Не забуду свой рыцарский турнир, на котором я не то победил, не то был одарен милостью к проигравшему.
Я видел ее всего несколько мгновений — и за это время успело произойти таинство. Мы словно обручились.
Да, при жене, которая, правда, сейчас обитает в Калифорнии замужем за своим одноклассником Борей Гроссманом, добряком и программистом, любящим наших детей.
Незнакомка скоро сошла на своей остановке, а я с тех пор все так же продолжал ехать в этом автобусе любви и нелюбви.
В те дни Томас рассказывал охотно о своей покинувшей его гражданской жене — бразильянке Пресцилле, которая оставила его, поскольку была слишком зависима от него; для расставания она прибегла к помощи феминистской организации. Пять лет назад он наткнулся на нее в Рио после какой-то конференции, в известном пабе из TripAvisor. Журналистка, пишущая на экологические темы, Пресцилла была некрасивой, кудрявой, низкорослой, но очаровательной; она приглянулась ему, как нравилась какая-нибудь неочевидная теория. В конце концов Томас выписал ее в Лион, вместе с сынишкой — неулыбчивым подростком, который на фотографиях глядел непроницаемо, как какой-нибудь индейский вождь.
Томас говорит, что любит Пресциллу, как свое собственное дитя, а она жаловалась в своей организации на его диктаторство — например, она любит в машине слушать самбу, а он включал Шопена, и она говорит, что он сноб, потому что он говорит, что Шопен лучше, чем самба, а на самом деле он считает, что Шопен более сложный. «Черт побери, ведь есть же разница между better и more sophisticated?! В моей семье все всегда разговаривали бесконечно, а она понимает только приказы».
Познакомились мы с Наташей в Лисьей бухте в Крыму. Хиппующая молодежь со всех концов страны собиралась в этом прибрежном местечке позагорать голышом у предгорий Эчки-Дага. Жили общинами, строили хижины из тростника, ходили в Щебетовку за вином и хлебом, мылись пресной водой у родника раз в неделю, стирались, набрасывая в белье камней и оставляя его ворочаться в прибойных волнах.
В то лето мы с ней много путешествовали — набегами из Лиски. Помню, ездили в Ялту пить кофе и кататься на канатной дороге. Ночевали однажды в каменоломне в Гурзуфе. Провели три дня в укромной бухте под Караул-Абой в Новом Свете.
Мои чувства к Наташе, протянувшиеся через жизнь — с несостоявшимся влечением к науке, с неудачными браками, с вечным моим пьянством и тлеющим одиночеством, — нельзя было даже назвать любовью — это было больше, чем любовь-морковь.
В юности Томас намеревался стать монахом — в то время как его будущая первая жена хотела стать монашенкой. Но иногда между ними била молния влечения, ибо разность полов сильней всего на свете и не способна проиграть ни Богу, ни Дарвину — и вот невеста забеременела и вопрос решился сам собой. Однако перестал он быть религиозен лишь постепенно, но Богу благодарен, потому что в двадцать пять лет у него обнаружили рак, и вера помогла идти в бой и представлять себя все преодолевшим — так и случилось: ему вырезали опухоль чуть пониже соска, взяли на замену кожу из-под колена, и рак не вернулся. Теперь его правая грудь слегка отвисает, как дряблая женская, и майка слишком прилегает в этом месте, а потому особенно здесь мнётся от пота. Профессор наш всерьез иррационально чувственен — точней, метафизически устремлен: он оставил первую жену, решив, что будучи «очень хорошим человеком», она как женщина перестала его вдохновлять, и женился снова. От первой у него трое дочерей, от второй — трое сыновей, с которыми он пунктирно поддерживает связь, а они, подростки, хором при встречах ужасаются тому, что их отец на улице решительно заговаривает с любым встречным, чаще всего встречной: «У вас превосходный сын!» или «Я хочу погладить вашу собаку!».
Вторая жена оказалась еще ревнивей прежней, это она разбила однажды Томасу нос, ставший после этого с горбинкой, которая придала его облику хищность — когда они были уже врозь, и он бегал от нее по всей большой квартире, спасшись, наконец, в уборной: отец Томаса покупал его бывшим женам квартиры в Берлине, он всегда расплачивался за своего сына, малахольно презиравшего деньги столь яростно, что они от него отваливались, как льдины от айсберга семейного успеха. Отец построил компанию по продаже строительных машин по всему миру — краны, бульдозеры, бетономешалки, вложил деньги в рост — во всевозможную недвижимость, включая несколько домов на Сардинии, дом в Давосе, несчетные обиталища в Берлине и Мюнхене, но все это распродавалось слишком быстро, потому что никто из детей не исповедовал практические ремесла, все стали кто музыкантом, кто психологом, а кто и физиком.
Помню, как небо звенит от зноя. Солнце Крыма остановилось. Море молчит, как раковина, приложенная к виску. Птица не вскрикнет. Ящерка не шевельнется. Уж бесшумно вьется в выжженной траве. В такой полдень я пришел к источнику. Две недели я жил на берегу бухты. Я наполнил бутылки из темного пластика ледяной водой и поставил на солнце греться. На склонах Эчки-Дага иногда вскрикивали цикады. И снова воцарялась толща оглушительной тишины. Море блистало внизу. Колосс солнечного света расправлял свои плечи. Тогда, у источника, я встретил Наташу. Мы по очереди ополоснулись, наслаждаясь пресной водой, и отправились завтракать в поселок. По дороге она рассказывала, как июнь провела в Ришикеше, что там белым людям охотно подают милостыню. Мы болтали обо всем на свете, и перед моими глазами мерцала её нагота, только что открывшаяся у источника. Таким было моё падение в рай, полный молчания моря, предгорий, полдня…
Томас не просто профессор, он настоящий гений, изобретатель знаменитой сигма-модели, организатор и вдохновитель научных конференций, он веселый и быстрый нарцисс. С возрастом он стал предпочитать психоанализ Богу, которому теперь им отводится роль искусной иллюзии.
Томас обожает одну из трех своих сестер — ту, чьи руки еще помнят ноктюрны Шопена — и регулярно, когда выходит на прогулку в Лионе, он звонит ей в тот момент, когда она тоже оказывается в парке на беговой дорожке. Наследство он еще не растратил только потому, что отец рано понял, что сын ни во что не ставит деньги, и значит, просадит все что ему ни дай. Отец вложил его часть в инвестиции и завещал вручить первенцу только проценты и лишь после смерти родителя.
Не раз я заезжал к соскучившейся Наташке зимой и знал, что Канны то засыпают, то просыпаются, — в зависимости от выставок. Скажем, являются в город производители, например, сантехники, и городская жизнь вдруг поднимается на поверхность из глубин обитания за ребрами жалюзи. Наполняются рестораны, набережная, горка, усеянная ресторациями и ведущая на вершину холма с пылающими светодиодами саженными буквами — CANNES. Здесь, на замощенной булыжником площадке проникновенно перебирает струны электрогитары сутулый лысый человек. За размеренно постукивающей ударной установкой сидит девушка в косынке. Чернильная пустота моря, усеянная огоньками яхт и увенчанная люстрой океанского лайнера, начинается сразу за набережной. После ужина с горки, где главенствует осыпанный зажженными свечами ресторан «Гаврош», тянутся послушать музыку командировочные. Здание, в котором проходят выставки и знаменитый кинофестиваль — нелепый урод, похожий на подбитый авианосец, антрацитовый Casino громоздится в отдалении на берегу — к нему страшновато приближаться. Знаменитую ковровую дорожку, видавшую подошвы почти всех звезд кинематографа, можно застать в момент демонтажа, что мы и сделали: под ней оказался неаккуратно уложенный шпон, но стало ясно то, что не видно обычно за стеной софитов — вблизи брезжит рябью море.
В последний вечер вдруг Томас подхватился, наскоро попрощался, и убежал на встречу с двумя своими PhD-студентами по зуму.
Оставшись с Наташей одни, мы переглянулись, зашли в бар и крепко выпили.
— Зачем ты его мне притащил?
— А зачем тебе пьяница и одиночка?
— Что ты понимаешь…
— Ничего.
— Вот именно, что ничего…
Мы помолчали.
— Ничего, дядя, проживем, — пробормотал я наконец.
Наташа улыбнулась, хотя на глазах у нее навернулись слезы. Она вынула из сумочки платочек и, протянув руку через столик, промокнула мне лоб.
фото: Nathan Dumlao on Unsplash