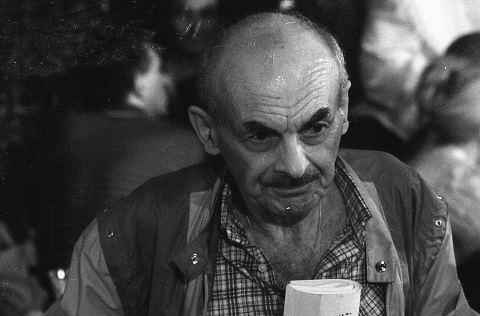1
На пороге Первой мировой войны в Париже сложилась исключительная интеллектуальная атмосфера. Это город, полный страннейших характеров; в России и Германии экстравагантных личностей хватало, но по иной причине: там ожидали революций, а Париж уже пережил несколько революций. То был постреволюционный город, для которого декларации привычны и успели надоесть; манифест футуризма газета Фигаро публикует, но толпы футуристов не штурмуют ограды парков. Бытописатели Парижа тех лет – Жуандо или Эренбург, чуть позже Генри Миллер и Оруэлл, оставили уличные зарисовки: буржуа, молящийся на коленях на людном мосту; танцующие посреди улицы слепые девушки; толпы детей на крышах; окна, распахнутые столь широко, что видно любовников в постели. Такого много, это дух города. В любом городе довольно своего безумия; данное безумие притягательно тем, что приличия не перечеркнуты, а словно полузабыты ради артистизма. В Париже революции уже не выковывали, как пятьдесят или сто лет назад – революция стала культурным фактом. «Король Убю» - драма революционная, но не того свойства, чтобы, прослушав текст, браться за топор. Любое мнение высказать тем легче, что его никто не слышит.
Стоит сказать «парижская школа» и представляем характерный образ человека в дешевом кафе. Человек беден; у него худое лицо и нервные пальцы рук, он скверно одет, перед ним стакан дешевого вина, возможно, единственная пища за день. Если он с подругой, то это такая же нищенка, и люди тянутся друг другу как к последнему убежищу. Картина Пикассо «Пара в кафе» 1903 г. воплощает «одиночество вдвоем»; темные фигуры вжались одна в другую, образуя беззащитное единство, мужчина смотрит пустым взором, какой появляется в горе, женщина глядит прямо на зрителя – губы сжаты, взгляд презрителен. Ни защиты, ни милостыни люди не просят, в этом особенность бедняков «парижской школы». Люди привыкли терпеть, устали от пустых слов, все и так ясно. Если искать среду для возникновения философии экзистенциализма, здесь самое место. Картина «Любительница абсента» слишком хорошо известна, чтобы описывать: руки одинокой женщины заплетены вокруг ее собственной фигуры: одиночество обнимает само себя – последняя крепость. В офорте «Le Repas frugal» («Скудная еда» 1904г.) пара сидит перед пустой тарелкой, одной на двоих, кусок хлеба и два пустых стакана – весь их обед. Худые руки мужчины и женщины переплелись как ветви зимних деревьев, как нервюры готического собора; шея мужчины с перекрученными и напряженными венами, тощие плечи женщины с выпирающими костями, ломкие длинные пальцы и запавшие глаза – эти фигуры срослись с единое здание, в собор нищеты. Связывает людей любовь или горе, неведомо; понятия уже тождественны: любовь подразумевает соучастие в горе. Офорт «Нищие» 1905 года: Пикассо изобразил семью на пустыре – не в кафе, где защищают стены. Вокруг ветер и темнота. Люди сжались в комок; уже не ищут спасения друг в друге, объятий нет: дети, женщина и мужчина - принимают неизбежную пустоту.
«Парижская школа» создала много вариантов одиночества – в картинах Паскина, Модильяни, Сутина, Кремня. Эрих-Мария Ремарк в «Триумфальной арке» написал портрет доктора Равика, эмигранта в Париже, характером и образом жизни схожего с героями Пикассо и Модильяни. Писатель Ремарк безусловно принадлежит к «парижской школе», как и ранний Хемингуэй.
«Парижская школа» в литературе и в живописи создала героя, которого не было прежде, но его приход подготовлен. Странствующие комедианты Пикассо угаданы Домье, невозможно не вспомнить «Эмигрантов». Бредущий по солнцепеку ван Гог; одинокий беглец Гоген – все встретились в «Ротонде». Любители абсента, гордые нищие, если бы им пришлось искать понимания в русском искусстве, нашлись бы строчки Мандельштама:
Еще не умер ты, еще ты не один
Покуда с нищенкой подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.
Роже Гароди в эссе о Пикассо приводит стихотворение Рильке:
«странствующие, ещё более безбытные, чем мы, -
те, что проснувшись утром,
вжимаются в другого,
у которого от любви к ним слабеет воля» (перевод МК).

Эрих Мария Ремарк
Вспомнить Рильке, Мандельштама и Ремарка уместно; однако живопись в отличии от поэзии - субстанция предметная. Картина – это вещь, предмет; картину делают руками; создание картины подразумевает наличие быта. Впервые в истории живописи на картине создан безбытный быт, нарисовано безразличие к предмету, дана история человека вне коллективной истории. Модильяни вообще ничего не рисует, помимо человека, — в его картинах нет среды. Говоря словами Камю, «творец должен придать окраску пустоте». Невозможно представить, как выглядит комната Модильяни. Даже бесприютный ван Гог, и тот с голландской тщательностью оставил описание быта: кровать, стул, книга, свеча. А Модильяни не держался ни за единый предмет. Поместите картины Модильяни и Сутина подле картин их современников: вот плотная, плотская картина Дерена с уверенными в своей полноте кувшинами, солидными бутылками, солидными салфетками, вот морской пейзаж Боннара с солнечными бликами на воде, вот картина бельгийца Пермеке — деревенский пейзаж, любовно и сочно написанный — вышеперечисленные художники любят свой край, пишут полноту ценимой ими жизни. Характерное определение «Joie de vivre» («Радость жизни», название холста Матисса 1906г.) свойственно французскому искусству вообще. Шарден, Пуссен, Ренуар, Моне, Вюйар, Делакруа, Энгр и даже трагический Домье любят проявления жизни. А художники «Парижской школы» радости жизни не ценят. Натюрморт с селедками Сутина — это портрет бытия, которое невыносимо. Сутин пишет раздавленные помидоры, петухов со свернутой шеей, кривые вилки и пишет размашисто, усугубляя ущербность вещей. Равнодушие и презрение к вещам — черта, не типичная для художника и не нормальная, поскольку художник призван любить вещи, увековечить их. Если следовать представлению Платона, то художник проникается идеей предмета, заключенной в материальном предмете, с тем, чтобы идею вещи передать в картине. Авангард 1910-х годов и конструктивизм именно утверждали значение вещи — рабочего инструмента бытия, микрокосма общества, символа труда. Журнал «Вещь» и принципы создания нового быта выражают конструктивное, рабочее отношение авангарда к материальному миру. Но «Парижская школа» довела неприятие вещественного мира до цинизма Диогена. Сохранился рассказ художника Фалька о посещении пятикомнатной квартиры Сутина в ту пору, когда Сутин разбогател; прежде он жил как бомж, но обзавелся жильем. Посетителя поразило наплевательство на материальную сторону существования: в каждой комнате было по одному предмету — в одной стоял стол, в другой кровать; все грязное. На полу лежали газеты, на газетах - одежда художника, шкафов не было. Сутин неделями держал в своей комнате освежеванную бычью тушу, распространявшую зловоние, нимало не заботясь о том, как существовать в те минуты, когда не рисуешь. Да и грязь рабочего процесса — Сутин никогда не мыл кисти, для всякого цвета брал новую кисть, а для французского мастера, относящегося к технической стороне ремесла внимательно, это непозволительно. Уехав на пару лет на вальяжный Юг Франции (его устроил там меценат Зборовский), Сутин органически не мог писать южную природу. Вернувшись в Париж, спалил написанное в Сера в камине. Впоследствии разыскивал картины, которые не успел сжечь, из тех, что были написаны в Сера, и уничтожал. Раздражало его то, что восхитило бы, например, Боннара или Ренуара, — гармоничные пейзажи, красоты природы. Спустя лет пятьдесят, в конце двадцатого века, такие выходки станут паспортом артистичности, но тогда было в диковинку; и уж точно исключает понятие «школа».
Понятие «Парижская школа» — символическое; не было никакой школы и программы обучения.
Общего принципа творчества у членов парижского братства нет; нет похожих приемов в работе. Модильяни пишет сухо, масляная краска на его картинах выглядит как фресковая темпера; Сутин пишет пастозно, жирно, широкой кистью; Паскин втирает краску, добиваясь акварельно прозрачной поверхности; Шагал пишет не мазками, но своеобразными сгустками, комками краски, вылепливая наивную форму как из пластилина. Роднит мастеров – индивидуализм. Даже если рассматривать небольшой фрагмент холста – индивидуальная манера очевидна, не спутаешь с другим.
Общим было то, что ни один из членов братства беженцев – не был похож на другого. Нет единого стиля, нет сходства в образах.
Практически любое «авангардное» объединение стремится унифицировать процесс живописи: именно фабричному производству учит своих учеников Филонов; именно производственным стандартам покраски холста учат в Баухаусе. Чтобы оценить конвейерный принцип, положенный в основу эстетики – стоит вспомнить дрезденское объединение «Мост» (впоследствии переместившееся в Берлин). Экспрессионисты Шмитт-Ротлуф, Хеккель, Пехштейн, Кирхнер ничего сюжетно-особенного не собирались сообщить миру; их позиция (манифестированная, документированная) состояла в том, чтобы показать «действительную действительность», выражавшуюся в энергичном напоре мазка. Естественно предположить, что энергия, спонтанно выплеснутая на холст, будет у каждого мастера выглядеть по-своему. Однако все обстояло ровно наоборот. Участники группы «Мост» разработали «групповой стиль», добиваясь того, чтобы их картины по сюжетам и по способу выражения стали совершенно неразличимы. Коллективным стилем члены объединения «Мост» преследовали две цели: а) теснее связать своё общество, б) выразить протест против буржуазно-индивидуалистского представления о художнике, как об «одиноком гении».
Парижская школа – это именно собрание «одиноких гениев».
Термин «Парижская школа» ввел критик Андре Варно в 1925г, чтобы обозначить французских художников нефранцузского происхождения. Последнее обстоятельство критично важно. Парижская школа не имеет отношения к традиции французской живописи, но укоренилась во французской культуре. Выражение «парижская школа» используют двояко: для обозначения эмигрантов, вовлеченных в орбиту парижской культурной жизни, – и как обозначение обитателей фаланстеров: сквота «Улей», сквота «Бато-Лавуар» и т.п. Отсылка к форме коммунального общежития, предложенного Фурье, важна. Фурье представлял коммуну, в которой общежитие провоцирует творческий труд, - фантазия на манер Телемской обители Рабле.
Парижская «Телемская обитель» выглядит не благопристойно. У Сутина (его можно считать «духом» парижской школы, ее домовым) есть предшественник, не осознанный, вероятно, самим Сутиным, повлиявший на мастера едва ли не больше, чем Рембрандт. Генуэзский живописец XVIII века Алессандро Маньяско писал сюжеты из жизни бродяг, каторжников, дезертиров. По характеру, стоящему за картинами, Маньяско напоминает бездомного Сутина; рисует руины заброшенных домов, людей, подвешенных на дыбе (ср. распятая туша быка), притоны разбойников, рынки рабов. Маньяско пишет бешеной кистью, швыряя краски на холст. Сутин довел мрачную фантазию генуэзца до символа эпохи; но приют бродяг и дезертиров – не вполне точное соответствие Телемской обители, конечно. Впрочем, порой бродяги куда более нравственные люди, нежели рантье.
Мастера «Парижской школы» связаны не манифестом, но кодексом поведения и стилем жизни. Подобно тому, как термин «новомировская интеллигенция» понятен человеку, знающему историю советской «оттепели», и обозначает либеральное сознание; подобно тому как слово «сменовеховцы» ясно тому, кто имеет представление о первой волне русской эмиграции, и обозначает соглашателя; подобно тому, как выражение «жирондист» уже не связано с партией, но обозначает умеренные взгляды – так и термин «Парижская школа» не есть определение стиля живописи – но обозначает тип сознания художника.
Речь идет о нравственной константе изгоя, живущего вне правил социума и создающего свой независимый мир внутри общества. Уникальное содружество в Париже 10-х годов ХХ века – на сорок лет отстоит от времени Парижской коммуны (1871 г). На кладбище Пер Лашез, неподалеку от Монпарнаса, расстреливали коммунаров; Парижская коммуна воспета Домье и Курбе; и Домье и Курбе были не только учителями рисования, у них учились отношению к жизни.
Бродячие комедианты Домье из той же труппы, что странствующие комедианты Пикассо, прачка, нарисованная Домье, приходится матерью рассыльного Сутина, а Фантина, героиня «Отверженных», - сестра моделей Модильяни; в еще большей степени герои «Парижской школы» напоминают персонажей Рогира ван дер Вейдена и Ван Эйка. «Семья Арлекина» - одна из первых акварелей «голубого периода» своей бургундской утонченностью напоминает «Благовещение» Ван Эйка (то, что называют «Портрет четы Арнольфини»). Те же вычурно-плавные, готические положения рук, те же длинные пальцы, коих не знает даже школа Фонтенбло, даже любимый юным мастером Эль Греко; вещь словно вышла из мастерских Брюсселя и Брюгге.
«Парижская школа» выбрала из истории искусств (всегда имеется преемственность, даже если о таковой не подозреваешь, и это не образец для подражания, но родословная) особый тип женщины – тощей, ломкой, с худой шеей, острыми плечами, тонкими руками. Герой и героиня «парижской школы» обладают готическим телосложением, отсылающим к бургундским картинам XV века. Эта женщина так приникает к возлюбленному, ее формы так вливаются в его формы, переплетаясь нервными линиями, что образуют готический архитектурный ансамбль. Модильяни пережил в молодости влияние скульптора Бранкузи, принято считать именно это объяснением удлиненных форм. Модильяни действительно работал кистью как резцом, обтесывал форму кистью, утрамбовывал поверхность холста, доводил красочный слой до состояния камня. Однако и сам Бранкузи, а через него и Модильяни, наследуют сухой жилистой готической, прежде всего, бургундской манере. Принято соотносить пластику Бранкузи и Модильяни с африканской маской; не отклоняя это сравнение, его следует принять как частное: африканская (ближневосточная) пластика вошла в структуру готики органично во время Крестовых походов; формы Модильяни наследуют Клаусу Слютеру и Рогиру ван дер Вейдену прежде всего своим стоицизмом, качеством, свойственным готике в принципе, и бургундскому искусству в особенности. Живопись Рогира и Мемлинга, упрямая стоическая пластика, где фигура всегда статуарна; сжатые губы, длинные нервные пальцы – именно это и характерно для героя «Парижской школы». Однажды Ренуар, рассуждая о жанре «ню», сказал Модильяни: «Писать женские бедра надо так, как будто их ласкаешь». Это было из тех mot мэтра живописи, брошенных новичку, что должны остаться в веках. Модильяни реагировал презрительно: «А я, мсье, вообще не люблю бедер». В ответе оскорбительно все: назвать старого классика «мсье», а не принятым в таких случаях «мэтр»; сказать, что не любишь его картины — ведь все картины Ренуара именно про бедра; но главное в другом — если Модильяни не любил бедра, зачем тогда писал обнаженных? Трудно вспомнить обнаженную модель, которая не провоцирует чувственных фантазий. Не только Джулиано Романо, Рубенс или Буше, которые писали, чтобы вызвать похоть; не только Тициан, Ренуар и Энгр, художники чувственные; но даже интеллектуальный Боттичелли, пишет волшебную «Венеру» в прельстительной наготе. Впрочем, у Боттичелли есть картина «Клевета», где изображена нагая Истина, с ломкой готической фигурой, как у бургундских женщин. Истина голая не потому, что отдается зрителю, — она голая как суть вещей. Джакометти в своих изваяниях практически бестелесных женщин выразил то же; это вытянутые (см. вытянутые шеи портретов Модильяни), изглоданные судьбой существа — главное в них не форма, но вертикальное стояние, они сопротивляются, умеют выживать. Джакометти довел высказывание Модильяни до предельного выражения; сам живописец настолько форму не обобщал; просто живописный рассказ ведется твердым языком, и портрет каменеет подобно готической статуе. Преемственность: Рогир — Бранкузи - Модильяни — Джакометти слишком очевидна, чтобы ее доказывать; интересно, что стоическая интерпретация фигуры продолжена во французском экзистенциализме. Камю — последователь Модильяни; тем самым, мы видим связь французского экзистенциализма с бургундской этикой. Готическая стать персонажей «Парижской школы» (см остроплечая «Гладильщица» Пикассо (1904 г., музей Соломона Р. Гуггенхайма) или его «Смерть арлекина» (1906 г., Национальная портретная галерея, Вашингтон), напоминающая готические надгробья) нашла предельное выражение в кубизме; впрочем, о кубизме, как диалекте «Парижской школы» нужно рассуждать в главе о Пикассо.
Здесь, в разговоре о герое, созданном «Парижской школой» (которая не есть школа искусства, но школа жизни), скажем лишь, что возникли люди, неведомые прежде ни французскому, ни европейскому искусству. Родство с готической экстатической скульптурой соборов лишь подчеркивает их уникальность: скульптура в соборе одинока, спрятана в нише.
Эти новые люди – эмигранты, изгои. Даже друг с другом сходятся с трудом, настолько привыкли к одиночеству. Мало того, что они не имеют партийных взглядов; нет даже общих привычек. Если что-то сближает, то не искусство и не декларации. Шагал и Сутин могли бы стать друзьями (два еврея из Белоруссии могли найти общие темы), но воспоминаний об их разговорах не сохранилось. Сутин, спустя несколько лет после смерти Модильяни, на вопрос, дружил ли он с Модильяни, ответил, что он с ним просто выпивал. И добавил: «А кто с ним не пил?». Если сравнить это с теснейшими профессиональными контактами в группе «Мост» или Баухаус, то отсутствие связующих парижан нитей поражает. Нет даже профессиональной сноровки, которую один передавал другому. Кафе – вместо общей мастерской; так возникла легенда о «Ротонде» — о нищих, сидящих каждый вечер за рюмкой.
Их беспечность сродни беспечности героя песенки Беранже:
«Не то чтоб очень пьян —
А весел бесконечно.
Есть деньги — прокутит;
Нет денег — обойдётся,
Да как ещё смеётся!
«Да ну их!..» — говорит,
«Да ну их!..» — говорит,
«Вот, говорит, потеха!
Ей-ей, умру…
Ей-ей, умру…
Ей-ей, умру от смеха!»
Шутник, как известно, умирает от нищеты, не изменив независимого нрава.
Героями холстов парижан становятся арлекины, циркачи, проститутки, клоуны — бродячие комедианты мира. Образ шута еще со времен «Портрета шута Гонеллы»» Жана Фуке стал символом свободы, еще Диего Веласкес учил, что шуты важнее королей, а комедианты Домье стоят рядом с его Дон Кихотом.
Барабанщик Домье, клоуны Руо, клоуны Пикассо, клоуны Куттера, клоуны Ван Донгена, - грустные люди с накрашенными лицами вдруг появились в предвоенном Париже, где столько политиков, партий и флагов, где важен партбилет и родина; а у них из революционного – только красный нос.
2
В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург описал парижское собрание талантов; не получилось объяснить главное: чем отношения в «Ротонде» отличались от отношений в авангардных кругах Москвы и Петербурга, Берлина и Мюнхена.
Художники собирались в «Ротонду» не ради того, чтобы выработать «групповой стиль» и «национальную идею», они создали коммуну.

Илья Эренбург
Художники, видевшиеся ежедневно, не сочинили совместного манифеста, не выпустили журнала, не сделали даже групповой выставки. И это в то время, когда манифестами обзавелись все: суфражистки, фашисты, кокаинисты, коммунисты и демократы выпускали что ни день по манифесту, а в «Парижской школе» программы не было. Основанное в 1916 году движение «Дада» или утвержденный в 1924 году «сюрреализм» немедленно манифестировали себя десятком изданий и деклараций. Стоило в предвоенной России пяти живописцам собраться вместе, как они обозначали себя «объединением» и публиковали грозные декларации. Юноши спешат декорировать площади, выступить с «Голгофы аудиторий Петрограда, Москвы, Одессы, Киева». Дебаты в Москве или Мюнхене идут отчаянные - Кандинский и Фейнингер, Малевич и Родченко, Марк и Кирхнер, Маринетти и Боччони куда более пассионарны и гораздо более влиятельны, чем завсегдатаи «Ротонды». Если открыть протокол заседаний авангардистов в Москве, Витебске, Петрограде или Берлине – читателя захлестнет волна энтузиазма; архивы Баухауса или ВХУТЕМАСа погружают читателя в кипящую лаву замыслов строителей нового мира; иное дело, что выглядят дискуссии крайне наивно – но, когда звучали, так не казалось. Сегодня читать статью «Бог не скинут», вышедшую из- под пера Малевича или «Пропеведь о проросли мировой» Филонова - утомительно; письмо вязкое, не вполне осмысленное – но подобные тексты сплотили ряды молодых людей.
В Париже никаких «приказов по армии искусств» нет. Возможно, манифестов не было по причине отсутствия родины. Они – чужие: кому могли бы приказать?
Так или иначе, но все авангардные кружки были связаны с национальным чувством, тем легче поддавались государственной переплавке. Родченко и Малевич изначально обращались к интернациональному пролетариату, но спустя короткое время, без усилия, сменили аудиторию на советский «союз города и деревни». Программы Моста и Синего всадника взывали к этническому корневому сознанию (программа группы «Мост» написана Кирхнером в средневековой манере, буквами, напоминающими руны), которое взорвет ненавистную цивилизацию. Футуристы Италии призывали нацию омолодиться и сплотиться; футуристы России связывали пафос с классом – хотя государственное чувство стремительно лишило понятие «класс» интернационального значения. Веселящий газ интернационализма улетучился из авангарда легко, главным стало чувство национальное. Российский пролетарий и германский рабочий спустя пятнадцать лет превратились в державных колоссов, пройдет еще десять лет и они вцепятся друг другу в глотку. Рабочий атлет с революционных плакатов был украшен красной звездой или свастикой, в зависимости от государственной принадлежности. Персонажи Маринетти или Боччони, Карра или Северини были с легкостью использованы в итальянской национальной пропаганде, а пионеры Родченко органично вошли в пантеон соцреализма, встав в одну шеренгу со спортсменами Дейнеки. Герои Родченко и Малевича, персонажи Балла и Боччони тем легче комплектовались в батальоны, что были до неразличимости похожи. Проделать ту же процедуру с героями холстов Парижской школы попросту невозможно. Они не вписываются ни в какую государственную программу.
«Мы будем восхвалять войну – единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть», - писал Маринетти в Манифесте футуризма.
Но ни герой Модильяни, ни герой Сутина за патриотизм и милитаризм умирать не собирались. Сутин был не в ладах с гигиеной, и, возможно, это связано с тем, что «гигиеной мира» его современники считали войну. Можно проделать мысленный эксперимент: водрузить на героя Модильяни фуражку с кокардой или украсить персонажа Сутина буденовкой – образ получится не убедительный.
Имеются воспоминания Гертруды Стайн о «Парижской школе», записки богемных персонажей, но все авторы описывают лишь попойки, беспечный праздник посреди предвоенной Европы – и никаких манифестов. Первый роман Хемингуэя «Фиеста» написан про эмигрантов в Париже: герои едут в Памплону на бой быков, потом возвращаются, ссорятся/мирятся, выпивают и закусывают – роман поражает нарочитой бессюжетностью. Разговоры в романе «Фиеста» дискретны – только про любовь и выпивку. Позвольте, но ведь на дворе фашизм, коммунизм, футуризм, наконец! Ни про Маринетти, ни про Малевича, ни про черные квадратики и «пропевень о проросли мировой» – ни слова. Словно в промежуток меж мировыми войнами ничего важнее стакана вина и нет.
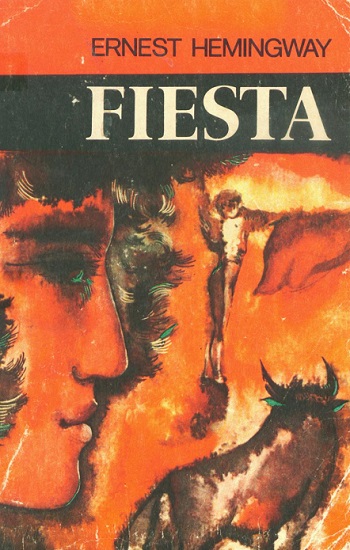
Значение слова «фиеста» Хемингуэй, знаток корриды, хорошо чувствовал. Фиеста –проходит во время боя быков, рядом со смертельной корридой. Карнавал перед постом, пир во время чумы; можно вспомнить «Декамерон», герои которого ведут беседы в поместье, отгороженном стеной от чумного города. Присутствие чумы, войны, поста – меняет характер праздника: надо успеть провести время с друзьями, но фейерверков на празднике нет. Если сравнить застолья, нарисованные Пикассо, Паскиным, Модильяни, Сутиным – с изящными интерьерами кафе Ренуара, Мане, Вюйара, Дени, - то «праздник, который всегда с тобой» предстает весьма умеренным, не бурным.
В короткой фразе Хемингуэя тот же пуризм, что в работах Пикассо. Пряный фовизм, насыщенный пышными декламациями не похож на скупые цвета Паскина или Модильяни. Общее правило парижской школы – брезгливое отношение к позе. Клубы/союзы/партии людей с упрощенными формами сознания, именующими себя «свободомыслящими» - нестерпимо вульгарны. Современная история «авангарда второго разлива» демонстрирует неспособность фигурантов процесса жить и творить поодиночке; художники-новаторы нуждаются в компании. Так было во все времена: требуется прильнуть к компании, чтобы выжить. И вот первая выставка объединения итальянских футуристов состоялась в Париже, в 1912 году, в то самое время, когда там жил Модильяни. Эмигранту (практически любому эмигранту, неустроенному в чужом городе человеку) свойственно тянутся к соплеменникам, а молодому непризнанному художнику свойственно тянуться к пылким новаторам. Закон стаи действует среди новаторов с безусловной верностью: инстинктивная потребность сбиться в группу единомышленников, освоить общий словарь терминов – спасает от внешнего мира. Амедео Модильяни, итальянец как Боччони, Балла, Северини и Маринетти, был далек от пафоса соплеменников. Не в том причина, что он любил буржуазный мир, ему бы не пришло в голову сказать, что «мотоцикл более совершенное произведение, нежели скульптура Микеланджело», это представлялось ему исключительно глупым. Когда молодые (или не очень) новаторы собираются вместе, им важна декларация, объединяющая группу; они хвалят произведения друг друга, создают уверенность у себя и у окружающих, что хор голосов представляет объективную ценность сделанного. Лозунги Маринетти, наподобие «Жар от куска дерева или железа нас волнует больше чем слезы женщины» - могли вызвать у Модильяни брезгливую улыбку. Вероятно, именно по причине брезгливости он не завязал отношений с футуристами, но проводил время за бутылкой с Хаимом Сутиным. Когда Модильяни говорил, сидя за столиком Ротонды: «Вчера Сутин закончил холст – это новый Рембрандт », он не имел в виду то, что холст Сутина отменяет холсты Рембрандта. Модильяни имел в виду простейшую вещь: те задачи, которые решают они – относятся к вечности, а не к партийным программам.
Их итальянские современники говорили так: «Давайте же, поджигайте библиотечные полки! Поверните каналы, чтобы они затопили музеи!.. Какой восторг видеть, как плывут, покачиваясь, знаменитые старые полотна, потерявшие цвет и расползшиеся!.. Берите кирки, топоры и молотки и крушите, крушите без жалости седые почтенные города!" Их русские современники предлагали «сбросить Пушкина с парохода современности», «тенькать пулями» по Рафаэлю и Растрелли. Авангардист Родченко в те годы еще не участвовал в ревизиях лагерей на Беломорканале, но устраивал суд над «Браком в Кане Галилейской» Рафаэля.
Ни Амедео Модильяни, ни Хаим Сутин, ни Марк Шагал, ни Морис Утрилло – эмигранты и бедняки, имевшие все основания влиться в авангардные ряды разрушителей старого, предпочли остаться в одиночестве; но – в одиночестве, вместе с изгнанным искусством Возрождения. При этом у каждого из этих одиночек была уверенность в том, что он отвечает за искусство мира; сравните эту легкую ношу бедняка - с тяжеловесными программами ВХУТЕМАСа и Баухауса, с амбициозными манифестами футуристов и троцкистов, с директивами партий, которым надо присягать на верность.
Парижских художников именуют «экзистенциалистами» при необходимости классифицировать. Экспрессионисты? Использование сходного приема (грубого мазка Сутина, кладки мастихином Модильяни), не приближает к мажорному экспрессионизму. Космополиты безродные, они не принадлежат никому направлению. Спустя годы Роберт Джордан (герой романа «По ком звонит колокол») просто объяснил беспартийное кредо. «Ты коммунист? — Нет, я антифашист. — С каких пор? — С тех пор как понял, что такое фашизм». «Парижскую школу» следует рассматривать как школу антифашизма, именно поэтому данная школа оппонирует российскому, итальянскому, германскому авангарду. Авангард – это стремление нации, народа, класса в светлое будущее, в большинстве случаев стремление агрессивное. Упорное сопротивление общему оболваниванию — главное, что передают холсты Модильяни. Когда Шагал уехал от большевистского авангарда в «Парижскую школу», он уехал, чтобы остаться собой. Парижская школа – это школа анархии.
Так случилось, что образ анархиста, не нашел адекватного воплощения в искусстве. У большевиков - свои поэты, у фашистов и монархистов – свои. Анархия не способна формировать сословие творческой интеллигенции, поскольку не признает элиту – а творческая интеллигенция желает быть элитой, тяготеет к номенклатуре, нуждается в поощрении богатых. Никаких платных протестных концертов, финансируемых оппозиционных журнальных колонок анархист принять не может; вот и певцов у анархии не было - за исключением художников Парижской школы, которые об этом не подозревали. «Парижская школа» явилась наследницей Парижской коммуны: протестный дух «Ротонды» был духом анархизма, а что на фоне большевизма и фашизма такой дух востребован - естественно. Французский историк Элен Фине называет анархо-синдикализм «формой параллельной цивилизации». Европейское общество несколько раз пыталось пройти этот путь – в коммуне Парижа 1871 года, в фаланстерах Фурье, в гильдиях средневековых европейских городов; в сущности, Ганзейский союз, параллельный Священной Римской империи - вариант сети коммун. Анархо-коммунистом был ван Гог (см. проект арлезианской коммуны), анархистом можно именовать Гогена (см. таитянские тетради), анархистом можно назвать Камю в «Чуме» и в «Бунтующем человеке» («Община против государства, конкретное общество против общества абсолютистского, разумная свобода против рациональной тирании и, наконец, альтруистический индивидуализм против закабаления масс…”). Ячейками анархо-коммунизма должны стать трудовые самоопределяющиеся коммуны; хочется вывести «парижскую школу» из такой идеологии, но это прозвучит фальшиво. Эмигранты «парижской школы были настолько «анархистами», что даже и анархистами не были. Их «анархизм», если сохранить такое условное определение, проявился не столько в парижском быте, сколько в более позднем эпизоде – в Гражданской войне в Испании.

Эрнест Хемингуэй
Когда герои Хемингуэя вспоминают юность, то вспоминают Париж «Ротонды»: герой «Снегов Килиманджаро», герой «Островов в океане», герой «Праздника который всегда с тобой» рассказывают про ту же самую пленительную жизнь честного бедняка, которую делили с художниками «парижской школы». В Испании 1936 года Хемингуэй встречал других учеников «парижской школы». Там же в Испании был и Оруэлл, а бедствие Герники нарисовал Пикассо. Испанские интербригады выросли из уроков свободы «Парижской школы» — это тот же безбытный интернационал, каким он сформировался в Латинском квартале. Впрочем, Эренбург во время Испанской войны уже верно служил сталинскому режиму, ему положено было ругать анархистов: «Анархисты, храбрые в первые дни войны, но терявшие голову при первой опасности». Тем не менее, Джордж Оруэлл, сражавшийся в Испании в рядах ПОУМ, видел реальность иначе: «Анархисты, в отличие от остальных революционеров, по-настоящему ненавидели привилегии и несправедливость. Коммунисты делают упор на централизм и оперативность, анархисты на свободу и равенство». Равенство и республиканизм – именно то, ради чего и сражались в Испании те антифашисты, кто прежде сидел за столиками парижских кафе.
Сохраним за «парижской школой» условное определение «анархия» - хотя бы ради того, чтобы отмежевать это явление от любой авангардной ангажированности тех лет. Но главное, все же в ином.
Оппозиция «авангард» - «парижская школа» требует развернутого объяснения.
Надо ответить на вопрос: если пафос авангарда, пафос любой из фракций авангарда, состоит в обновлении мира, в уничтожении старых форм искусства, в монолитной организации общества, в устройстве нового быта – то в чем цель «парижской школы»?
Еще проще: всякое искусство – сознательно или опосредованно – выдвигает проект общества; авангардисты весьма отчетливо сказали, какое именно общество хотят они: без Бога, без прежнего понятия «прекрасное», функционально эффективное, с эмоциями, подчиненными общему делу. Какое общество проектирует «парижская школа»?
Ответить на этот, самый существенный, вопрос требуется развернуто. Формулировка должна сложиться постепенно, из собрания характеристик «парижской школы» - идеологических, социальных, национальных, художественных. Явление это необычное для своего времени, но давшее сильнейший импульс европейской культуре. Послевоенный «ренессанс» освобожденной от фашизма Европы (время от 1945 до 1968) опирался в своей эстетике на «парижскую школу», и некоторые герои Парижской школы – такие как Пикассо или Хемингуэй даже инициировали послевоенную гуманизацию. Исходя хотя бы из этого, следует рассмотреть феномен «парижской школы» и дать определение явлению.
Модильяни, Паскин, Шагал и Сутин не подписывали никакого манифеста. Общее меж ними несомненно было: они все были гуманистами – в том, ренессансном понимании этого слова, как его употреблял Бруни и Пальмиери; была и еще одна особенность – они были республиканцами.
Существовало еще одно обстоятельство: эти эмигранты - евреи.
3
Большинство из них были евреями, что усугубляло одиночество в чужой стране; в преддверии Холокоста, на фоне национализма тех лет, в связи с делом Дрейфуса – это уместно упомянуть. Собственно, в коммуне Парижской школы отыскать нееврея - занятие нелегкое. Художники Амедео Модильяни, Хаим Сутин, Марк Шагал, Макс Жакоб, Моисей Кислинг, Жюль Паскин, Осип Цадкин, Антуан Певзнер, Соня Делоне, Ханна Орлова, Жак Липшиц; менее известные художники, которых тоже причисляют к Парижской школе: Менкес Зигмунд, Иссак Пайлес, Кремень Пинхус, Владимир Баранов-Россине, Абрам Минчин, Оскар Мещанинов, Леопольд Розенберг, Жак Готко, Готлиб Леопольд, Ежи Меркель, и т.д., поистине много имен; их собеседники, наперсники и коллекционеры: Гертруда Штайн, Илья Эренбург, Даниэль-Анри Канвайлер, Хайнц Берггрюен и прочие – все они евреи. Выходцы из Германии, России, Польши, Румынии, Литвы - еврейские эмигранты ехали в Париж, несмотря на недавний процесс Дрейфуса; некоторые пробовали осесть в Берлине, где обилие богатых соплеменников как бы предвещало рынок; известные события (предчувствие таковых) выгнали в Париж. Ни в одном городе мира, ни в едином художественном направлении нельзя встретить такое количество евреев, как в Париже в начале ХХ века. «Парижская школа», еврейское в большинстве своем содружество художников, возникает в той стране, где антисемитизм приобрел характер культурной реконкисты. Книга Эдуарда Дрюмона «Еврейская Франция» становится бестселлером, выдерживает за короткий период 200 изданий (перевод на русский выходит почти немедленно). Дело Дрейфуса подтверждает пафос книги; оправдание Дрейфуса, в котором принимало участие немало достойных людей, не уничтожило эффект кампании совершенно. Прозрение задним числом многих настигло, как в отношении Дрейфуса, так и в отношении Парижской коммуны. Мане пишет картину «Побег Анри Рошфора» (оба варианта картины написаны в 1881 году) - это прекрасно, но было бы еще прекраснее, будь написано на десять лет раньше.
Атмосфера в Париже не столь благоприятна для евреев, коммунистов, и эмигрантов –и, тем не менее, «Улей», «Ротонда» и «Бато-Лавуар» принимают всех.
Бегут от погромов в России и Белоруссии, от погромов в Литве и Украине, от ненависти в Венгрии и Румынии. Национальный предвоенный кураж (его и манифестирует «авангард») сопровождается антисемитизмом. Эмиграция белорусских евреев (Шагал или Сутин) - заслуга имперской политики: еще Екатерина распорядилась высылать евреев из империи. Но убежав из одной империи – еврей попадает в другую империю, где ему тоже не рады: от инородцев ждут беды. Убежав от славянских антисемитов – приезжают к галльским. Достоевский писал так: «укажите на какое-нибудь другое племя из русских инородцев, которое бы, по ужасному своему влиянию, могло бы равняться в этом смысле с евреем». В годы революции правота Федора Михайловича подтвердилась в том отношении, что множество евреев пошло в красные комиссары, как бы сводя счеты со страной, где они жили бесправно. На этот же факт указывает Солженицын в Архипелаге Гулаг, перечисляя руководство ГУЛАГа, в большинстве своем евреев. Заканчивает главу писатель следующим образом: «Думаю, эти люди ненавидели Россию». Было бы несправедливо умолчать о мнении Уинстона Черчилля о евреях: «Нет надобности преувеличивать роль, сыгранную в создании большевизма и подлинного участия в русской революции, интернациональных евреев-атеистов. Более того, главное вдохновение и движущая сила исходят от еврейских вождей. В советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно. И главную часть в проведении системы террора, учреждённого Чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, была осуществлена евреями и в некоторых случаях еврейками. Такая же дьявольская известность была достигнута евреями в период террора, когда Венгрией правил Бэла Кун. … Всемирный заговор для ниспровержения культуры и переделки общества на началах остановки прогресса, завистливой злобы и немыслимого равенства продолжал непрерывно расти. Он был главной пружиной всех подрывных движений 19-го столетия. Сейчас эта шайка необычных личностей, подонков больших городов Европы и Америки, схватила за волосы у держит в своих руках русский народ, фактически став безраздельным хозяином громадной империи. Нет нужды преувеличивать роль этих интернациональных и большей частью безбожных евреев в создании большевизма и в проведении русской революции».
Приведенные мнения важны для понимания атмосферы, в которой существовало эмигрантское и, по преимуществу, еврейское сообщество художников в Париже. Вне зависимости от того, насколько правы Солженицын, Достоевский и Черчилль, (и вне вопросов о том, к какой национальности принадлежали Сталин, Берия, Ежов, Дзержинский и Менжинский и сколь гуманен был сам Черчилль) – надо согласиться, что эмиграция евреев в Париж уравновесила хождение в большевизм. Бесспорно, огромное количество евреев из черт оседлости, пораженных в правах, использовали революцию как шанс для того, чтобы взять реванш у судьбы; но в Париж, в аполитичный союз бесправных и неуспешных художников съезжались евреи со всего света и вовсе не для революционных программ.
В Париже 10-х годов ХХ века сложилась ситуация, сопоставимая с культурным подъемом Голландии, связанным с изгнанием морисков и иудеев из Испании и Португалии. Многие сотни образованных людей, талантливых и не имеющих отечества (во время повышенной температуры национальных чувств в Европе) стекаются в Париж. Так и в Нидерланды, тогда еще принадлежащие империи Габсбургов, приезжали выдворенные из Испании евреи, провоцируя культурный всплеск в городах: ученые, врачи, философы, астрологи, теологи. Собственно говоря, Модильяни, Шагал и Сутин в ХХ веке повторили судьбу Спинозы в 17ом веке. Модильяни сознательно строил легенду своей родословной и провозглашал Спинозу - прапрадедом. Еврей-сефард, чьи предки были изгнаны из Португалии, Спиноза был чужим везде, уже будучи в Гааге, умудрился добиться отлучения и от еврейской общины: его независимость соответствует нравам «Ротонды». Любимыми авторами Сутина были Монтень и Спиноза. Читать Монтеня нетрудно: бордосский скептик писал фрагментарно, «Опыты» можно читать с любого места. Трактаты Спинозы длинные, цель - отделение философии от богословия; поверить, что Сутин мог осилить текст Спинозы, трудно; независимость философа Сутин, несомненно усвоил, а независимость разлита в каждой странице Спинозы.
В Европе множество беженцев, но символом бродяжничества стала судьба еврея. Чаплин, параллельно с Сутиным и Шагалом, создал тот же образ: его бродяга - обобщенный образ одиночества; но он и еврей. Асоциален потому, что еврей, или осознает свое еврейство, потому что не может войти в «дивный новый» мир? Картина Пикассо «Старый еврей с мальчиком» (1903) воспринимается как реквием по судьбе евреев, жертв гонений. На деле не так: картина, написанная еще в Барселоне, является иллюстрацией к испанскому плутовскому роману «Книга о Ласаро де Тормес», в первых главах которого Ласарильо становится проводником слепого еврея. Пикассо писал судьбу испанского беспризорника, но культурная ситуация Европы скорректировала смысл картины: еврею нельзя не сострадать – рукой Пикассо в данном случае вела история. В фильме «Великий диктатор» проблему еврейства Чаплин обозначил внятно. Модильяни, Сутин и Шагал и Чаплин не были застенчивыми евреями, скрывающими национальную принадлежность. Эренбург вспоминает, как Модильяни, услышав антисемитский разговор в кафе, сказал на весь зал: «Я — еврей. И заставлю тебя замолчать». Фашизм уже заявил о себе. Ультраправое движение «Аксьон Франсез» не просто широко известно — принимается тысячами. Антидрейфусары после процесса на Дрейфусом сплотились; лидер, Шарль Моррас, - модный светский персонаж. Реваншистские чувства по отношению к Германии называют патриотизмом. Художник может себе позволить быть вне политики, может ли это себе позволить еврей-эмигрант?
В рассуждении о коммуне Парижской школы феномен «еврейства» – приобретает особый смысл: содружество инакости, становится символом интернационального искусства. «Интернационализм» становится программой Парижской школы – и это тогда, когда национальная идея доминирует в любом авангардном сообществе. Большинство авангардных объединений той поры («Синий всадник», «Мост», и тп) настаивают на национальной природе. Русский супрематизм, германский экспрессионизм, итальянский футуризм настаивают на почве. Ничего почвенного и национального коммуна Парижской школы не знает в принципе.
Как правило, национальный колорит помогает художнику укоренить своих героев в родной почве: крестьяне Франсуа Милле бедны, но они стоят на своей земле; шахтеры Боринажа или едоки картофеля ван Гога измочалены нуждой,— но у них остается свой край, свой труд. Бульварные фланеры с картин импрессионистов, пролетариат Парижа, воспетый Домье, — все эти герои живут в своем отечестве; они в нужде, но у себя дома. Герои «Парижской школы» — никто и нигде; поражены в правах, не за что зацепиться. Они еще более бесправны, чем едоки картофеля. Пикассо, как рассказывают, так и не овладел хорошим французским, Сутин писал по-французски с ошибками, Шагал говорил со смешным акцентом. Им пришлось расплатиться за еврейство: но это еще впереди.
Пестрая семья «Странствующих комедиантов» Пикассо и раздавленные помидоры с картин Сутина – наиболее адекватные метафоры раздавленной еврейской судьбы. Ван Гог, даже когда пишет картофель, чтобы передать нищету Нюэнена, пишет всякую картофелину с любовью: эту картошку вырастили крестьяне на своем поле: но у художников «парижской школы» ничего своего нет: все вокруг чужое в чужом доме. «Безбытность» в жизни коммуны принимала гротескные формы. Известно, что Сутин и Шагал имели привычку писать голыми, раздевались донага, прежде чем взять кисти. Объяснение банальное: не хотели пачкать одежду, лишних рубах и штанов не было, но прежде всего делали так оттого, что степень свободы, которую обретаешь, освободившись от одежды, казалась необходимой в искусстве. Уместно вспомнить, что спустя 70 лет художник, несхожий с ними темпераментом, но схожий обостренным чувством уязвимости, тоже эмигрант, и тоже еврей, Люсьен Фройд, оставил свой портрет – обнаженным и с палитрой. Фройд написал себя голым оттого, что проблема пола в его искусстве занимает главное место. Впрочем, Люсьен Фройд, наделенный мрачным чувством юмора, возможно, имел в виду и то, что евреев, при отправке в газовую камеру, раздевали донага. И автопортрет обнаженного старого еврея напоминает зрителю о «die Himmelstrasse» в Треблинке; беженец от нацизма из Австрии, он, несомненно, знал об этом проходе в газовую камеру, под названием “улица в небо”, по которому вели голых людей. Шагал и Сутин художники целомудренные, иногда кажется, что ханжеские – в их фантазиях обнаженные люди встречаются редко. И тем не менее, они стояли у мольберта в голом виде. Оба художника (первый пережил войну, второй умер в 1943г.) успели узнать, насколько пророческим оказалось их раздевание. Таких странных людей, как они, в общежитиях-бараках «Улье» и Бато-Лавуар было много.
«Улей», трехэтажная ротонда, бывший павильон бордосских вин, был куплен Альбером Буше, перенесен на улицу Данциг. Павильон был разделен на небольшие студии, которые сдавались художникам за символическую плату; «Улей» стал в буквальном смысле слова «фаланстером», то есть, трудовой коммуной, как видел таковую Фурье. В разное время, начиная с 1902 года, когда общежитие заработало, здесь жили Шагал, Модильяни, Сутин, Цадкин, Штеренберг, Кремень, Архипенко и прочие. 140 мастерских – это в буквальном смысле дом-коммуна, напоминающий более поздние проекты конструктивистов, созданные для коллективного быта, или венские проекты муниципальных домов, которые стали появляться в 20е годы ХХ века. К тому же типу общежитий-сквотов-фаланстеров Парижа относится и так называемый «Бато-Лавуар» (Bateau-Lavoir), бывшая фабрика в районе Монмартра, где в разное время живут Модильяни, Пикассо, Макс Жакоб, Андре Сальмон, Хуан Грис и тд.
Фаланстер «Улей», вне зависимости от того, какую именно социальную идею закладывал владелец здания - Буше, олицетворял идею коммуны; можно не разделять «республиканских» взглядов, но жизнь внутри «фаланстера» имеет собственную логику.
То, что в Париже в этот момент собралось много эмигрантов-евреев (это очевидный факт), не должно служить основанием для утверждения, будто «Парижская школа» - это «еврейская школа». Это ни в коем случае не так: в отличие от немецкого экспрессионизма, который был именно «немецким» и программно национальным, в отличие от итальянского «футуризма», который был именно итальянским и программно национальным, - в отличие практически от всех авангардно-националистических движений, «Парижская школа», хотя в сообществе мастеров преобладали люди еврейской национальности, не была «еврейской». Однако происхождение большинства членов фаланстера имело значение, смысл еврейства сказался в ином. Если обратиться к анализу Иудейской республики периода книги Судей, до-царского времени, сделанному Кунеусом (Питер ван дер Кун) в XVII веке в Голландской республике, - Петрус Куненус ставил иудейский республиканизм в пример Голландской республике, предостерегая от власти рынка и богатства, - то аналогия фаланстера «Улей» с республикой иудеев, сложившейся во время Исхода, кажется уместной. Если вспомнить, как английские протестанты относились к опыту «иудейской республики равных», если вспомнить работы Мильтона и Харрингтона XVII века, посвященные «иудейскому содружеству», то возникает совершенно иная связь с еврейской нацией – не националистическая, но социально-правовая. Речь идет о ветхозаветной традиции республиканизма, сложившейся в связи с Законами Моисея, принятыми во время исхода из Египта.

Марк Шагал "Влюбленные в синем"
Отсылка к Ветхозаветной традиции не должна удивлять, если осознать ситуацию начала ХХ века. Европа переживает расцвет антисемитизма, связанный с Дрейфусом, с фашизмом, со всеми оттенками национализма, с коммунизмом и большевистской революцией, которые трактуются как «еврейские». В условиях тотального антисемитизма, который закончится Холокостом, в коем примут участие многие европейские страны, - было бы удивительно, если бы не последовала ответная ветхозаветная реакция. Поднимая гигантский пласт почвы, докапываясь до языческих корней, чтобы оправдать господство расы и истребление евреев, можно ожидать и того, что обращение к корням истории – вызовет к жизни «палингенез» иного рода: возврат ветхозаветной пророческой традиции. Когда возвращаешься вспять, можно отыскать вовсе неожиданные вещи: фашизм Европы был (как трактуют его многие, в том числе Эмилио Джентиле) оживлением породы, «палингенезом», то есть, актуализацией генетических данных. Но одним из определяющих генов человеческой культуры является Священное Писание, Ветхий завет, и, коль скоро, спустились к корням, можно отыскать нечто помимо Одина и Тора. И это не просто защитная реакция еврейского этноса. Ветхозаветное сознание пробудилось ровно на том же основании, на каком пробудилось арийское сознание, ветхозаветная идея проснулась ровно с той силой, какая была затрачена на истребление еврейского народа. И, проснувшись, ветхозаветная идея – в Модильяни, в Сутине, в Шагале – заговорила в полный голос. И почему же надо ожидать, что ветхозаветная концепция будет говорить тише, нежели идеология галлов или арийцев? Законы Моисея, обсуждаемые и утвержденные в книгах Завета, стали основой идеи республиканизма в Голландии, их уважали протестанты Англии, этот «иудейский республиканизм» и лег в основу отношений «Парижской школы», стал ее эстетикой. На основании этих законов Парижская школа противостояла авангарду.
Принципы равенства и республиканизма, не признающие ни олигархию, ни тиранию, ни демократию (греческая философия в лице Платона и Аристотеля также считает эти формы общественного устройства наихудшими, ведущими к произволу), но утверждающую лишь власть Сената (Синедриона), постоянно выбираемого из достойнейших и запрещающего спекуляцию землями – эти принципы не «провозглашаются» (стиль общения «Улья» чужд декларациям) но по безмолвному согласию принимаются как правила поведения. Стиль равенства и «честности» (впоследствии пресловутая «честность в искусстве» станет предметом конъюнктурных и бесчестных дебатов) в отношениях членов содружества – нормален для бродяг и изгоев. А то, что изгоями по преимуществу являются евреи, то, что судьба евреев со времен Вавилонского и Ассирийского пленений – это судьба изгоев – очевидно. Темы картин «Парижской школы» - это прежде всего рассказ о лишениях странников, то есть описание той судьбы, которая выпала в истории евреям. Идея «иудейской республики», однажды воплощенная в Израиле, существовавшая в эпоху Судей (см книгу Судей) вплоть до царей – эта идея продолжает жить в рассеянном народе, сохраняется как форма внутренней социальной организации внутри чужого мира.
Творчество Амадео Модильяни – начиная со скульптур, огромных голов, сделанных под влиянием Бранкузи, которые сам Модильяни называл «столпами нежности», и включая многочисленные портреты людей с длинными шеями и пустыми незрячими глазами – представляет огромную галерею лиц, своего рода пантеон, портрет племени. Самая прямая аналогия творчеству Модильяни это не Бранкузи (даже подражая румынскому скульптору, Модильяни переиначивал смысл статуй), и не Сезанн (хотя подражания Сезанну легко отыскать в ранних вещах), и даже не итальянский Ренессанс (хотя и эти аналогии найти можно). Самая прямая аналогия – это фаюмский портрет, египетские посмертные изображения. Модильяни сохранил даже нарочито безыскусную, формальную фронтальность изображений: подобно лицам умерших в фаюмских портертах, персонажи Модильяни всегда изображены анфас, точно паспортные фотографии; лишь изредка художник позволяет себе артистическую вольность – нарисовать модель в профиль и проследить поворот; однообразный ряд лиц выполнен поистине с однообразием, свойственным фаюмским мастерам. И стоит осознать родственность портретов Модильяни – фаюмским портретам, как понимаешь уместность «посмертных» портретов живущих, выполненных накануне или во время Мировой войны. У Эренбурга есть строка о «судьбе моделей Модильяни, вокруг которых сжималось железное кольцо». Эренбург, который отмечал острое переживание еврейства в Модильяни (см. описание сцены скандала в кафе и свидетельство об увлечении Нострадамусом), не пошел дальше – и не назвал галерею портретов – посмертными масками. Хотя только это могло бы объяснить незрячие глаза и застывшее, однообразное выражение. Фактически, Модильяни создал вариант «фаюмского портрета» - галерею надгробий; но и так сказать недостаточно. Интерес Модильяни к египетскому искусству известен. Об этом пишет и Ахматова, которую Модильяни будто бы водил смотреть на амарнское искусство Египта и даже, будто бы, говорил, что «амарнский период» Египетской пластики – самое интересное, что существует в мире. Амарнский период египетского искусства, то есть XIVв. до н.э. предшествует по времени Исходу евреев из Египта. Иными словами, это та единственная пластическая культура, художественная среда, которая окружала иудеев в тот момент, когда они обрели свободу. Портреты Модильяни – это портреты ушедших из Египетского плена, обреченных на скитание республиканцев. Влияние египетской манеры можно проследить в собственно иудейском искусстве: резче всего это видно во фресках синагоги в Dura-Europos на Евфрате; эта же лапидарная иудейская пластика и у Модильяни. Модильяни не рисовал атрибутов бродяжничества или сиротства, как многие из его соседей по «Улью»: не рисовал нищих в кафе за рюмкой дешевого вина, не рисовал замерзающих стариков, и даже проститутки на его портретах лишены характерных примет профессии – художник пишет всех людей равными. Проститутка или замужняя дама, голодный Сутин или обеспеченный Зборовский – Модильяни не различает сословий. Модильяни рисует всех – принадлежащими к общему племени, которое можно именовать «отверженными» лишь в том смысле, в каком отверженными являются евреи в принципе. Портреты Модильяни следует воспринимать как лица людей, идущих через пустыню, как лица людей Исхода. Идя сквозь египетскую пустыню, люди принимают некоторые черты египетского колорита – и, если сходство с посмертными изображениями египтян и существует, то это благоприобретенное в ходе скитаний сходство. Однообразное колористическое решение – терракотовый цвет кожи, нейтральный фон, акцент на глаза, отсылает зрителя к египетским маскам. Находясь внутри империи, эти люди сохраняют свой коллектив, свои ценности; перед нами галерея странников сквозь империю. И в этом смысле любой из персонажей Модильяни становится евреем, ветхозаветным евреем, идущим сквозь Египет.
Нострадамус, «Центурии» которого Модильяни, по многочисленным свидетельствам, едва ли не носил в кармане и постоянно цитировал, был евреем-сефардом, и свое летоисчисление, как известно, строил согласно ветхозаветному пониманию времени. Оспоренное при жизни автора его другом Скалигером (сын которого сам стал знаменитым хронологом древнего мир) летоисчисление Нострадамуса настойчиво повторяется из катрена в катрен. Эсхатология Нострадамуса, пророчество «конца времен» сообразуется с ветхозаветным пониманием завершения цикла. Судя по свидетельству Эренбурга, например, Модильяни отозвался скептически (по привычке, подтрунивая над любым пафосом) о социалистической революции в России, о коей вещает Ривера, поскольку общий конец не за горами «Художник Модильяни с клекотом дикой птицы читал предсказания Нострадамуса: „Мир скоро погибнет!..“»
Если смотреть на портреты Модильяни так, в связи с концом времен, египетскими масками и Исходом из империи Египта, то становятся понятны незрячие глаза его портретной галереи – глаза, только ждущие того, чтобы быть отверзнутыми.

Амадео Модильяни "Сидящая обнаженная"
«Парижская школа» (продолжая использовать условный термин, вкладываю в него иной смысл, не общую художественную программу, но проект республики, «содружество», организованное – или сложившееся – по образцу «еврейского содружества», если пользоваться выражением Харрингтона) возникла не как декларация художественного движения, но как манифест общественного устройства, как манифест статуса художника-гражданина. Чтобы осознать «Парижскую школу» как культурное явление по сравнению с авангардными движениями той поры, надо увидеть в ней не призыв к переменам (как у футуристов или конструктивистов), не ожидание войны и насилия (как у экспрессионистов или футуристов), не торжество почвы (как у фашистов), и не ужас перед искажением бытия (как у сюрреалистов) – «Парижская школа» - это своего рода гетто, убежище, замкнутое сообщество, хранящее гуманистические, республиканские, нравственные ценности в общем хаосе. Парижская школа, таким образом, это ответ республики – на декларацию империи. Этот ответ во многом сформулирован в образах Ветхого завета, исходя из образа иудейской республики времен Первого храма. Это утверждение не должно вызывать удивления, коль скоро мы принимаем как данность специфически германский оттенок экспрессионизма или специфически итальянскую (отсылающую к Риму) природу футуризма. Характерен диалог Макса Жакоба и Модильяни (в передаче Лифшица). Когда Макс Жакоб (еврей и, скорее всего, иудей по рождению) стал католиком, он пытался обратить в христианство друзей. «Я не следую никакой религии», — ответил Модильяни. «Но если бы следовал, то придерживался бы иудаизма так же, как продолжают ему следовать мои родные, много веков живущие в Ливорно. Я из еврейской семьи, история которой восходит почти к римским временам». В этом ответе – содержится вся художественная программа: Ветхий завет служил не религиозной догмой, но нравственным нормативом. То, что «еврейство» провоцировало на переживание «отдельности» - безусловно; важно иное: в понимании Парижской школы или в понимании «еврейского содружества», как трактовали его Кунеус, Харрингтон или Мильтон, такого рода отдельность есть попытка сохранить республиканскую мораль, которая для империи – неприемлема. Такого рода отдельность воспринимается как «государство в государстве». Священник Вильгельма Первого, Адольф Штекер (в скобках можно добавить: основатель христианской социальной партии рабочих) так именно и формулировал: «Евреи — это нация внутри нации, государство в государстве, раса внутри другой расы. Они — прямая противоположность германскому духу. Иудаизм — чужеродная капля крови в нашем национальном организме: это — разрушительная сила. Мы обязаны лелеять характерные свойства нашего национального духа, германского духа: трудолюбие и благочестие — наше национальное наследие.» Но чтобы в полной мере осознать неприятие внутренней республики внутри национальной империи, надо познакомиться с Дневниками Достоевского, осознавшего вопрос вполне трезво: «Чтобы существовать сорок веков на земле, т.е. во весь исторический период человечества, да ещё в таком плотном и нерушимом единении; чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в прежней идее, хоть и в другом виде, опять создавать себе и законы, и почти веру — нет, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергичный народ, такой беспримерный в мире народ не мог существовать без «государства в государстве», которое он сохранял всегда и везде во время самых страшных тысячелетних рассеяний и гонений своих…» Любопытно, что дальнейшие рассуждения Достоевского вполне распространяются на Парижскую школу как художественное явление: «Не вникая в суть и глубину предмета, можно изобразить хотя бы некоторые признаки этого «государства в государстве», по крайней мере хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность — еврей, а другие хоть есть, но всё равно надо считать, что как бы их не существовало. «Выйди из народов и составь свою особь, и знай, что с тех пор ты один у Бога, остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что всё покорится тебе…»
Достоевский предъявляя принципу иудейского республиканства обвинение от имени империи (в данном случае Российской Империи) полагает, что иудеи - это «государство в государстве», но это не так; это - республика в империи. В остальном (если исключить предположение русского писателя, будто евреи хотят прочих истребить: ничего подобного ни Сутин, ни Модильяни, ни Шагал не хотели) Достоевский предлагает абсолютно точный анализ феномена Парижской школы: «отчудимость» (сохраним оригинальное слово писателя), неслиянность, и вера в то, что есть единая народность. Последний пункт «народность» следует уточнить. Цветаева как-то сказала «в этом христианнейшем из миров все поэты – жиды»; и в этом смысле только и можно рассуждать об особой народности. Изгои «Улья» и странники «Ротонды» - евреи, но в том, ветхозаветном, республиканском смысле, в каком воспринимали книгу Исход протестанты Голландии и Англии в 17ом веке.
Начинается большая война, фактически новая Тридцатилетняя война, в которой евреев будут планомерно истреблять, еще до Гитлера это намерение выразит император Германии Вильгельм Второй: «Евреи — это повсеместная чума, от которой мы хотели бы освободиться». Надо обладать отчаянием смертника, чтобы принять участие в Парижской школе, утвердить свое идеологическое еврейство; бытовой героизм в Сутине, в Шагале, в Пинхусе Кремне или в Цадкине обнаружить сложно; у них отвага иная. Это та безумная и алогичная неуклюжая смелость, что прорывается в их современнике и двойнике – в Чарли Чаплине, в персонаже его комедий Шарло. Чаплинская отвага сродни сумасшествию: человечек Шарло идет во весь рост на огромное зло не потому, разумеется, что рассчитывает победить, и не потому даже, что хочет благородно пожертвовать собой: этот маленький еврей не рассуждает в категориях «не могу поступить иначе» и т.п.; романтическая поза ему не свойственна: комичный тщедушный человечек позу принять не сможет: смешно выйдет. Его психическая организация такова, что маленького человечка несет на опасность вопреки здравому смыслу, его влечет присущая бездомным предкам последняя гордость обреченного, что заставляла поднимать голос на фараона и императора. Человечек будет убит, сожжен, закопан живьем, его потомков задушат в газовых камерах – и никакого жеста героического сопротивления человечек не произведет: слишком неуклюж. Им руководит иррациональная сила онтологической свободы, не связанная с независимостью; это нелепое чувство вытравливают в течение многих поколений, тем не менее, оно живет наперекор всему. Это особая свобода, не баррикадная и не правовая; свобода еврея проявляется в защите другого слабого еврея, и ни в чем более. Ни взрывать мостов, ни закрывать амбразуры неуклюжий человечек не умеет, он и на баррикадах не стоит, поскольку не знает за какой именно строй и против какого строя баррикада построена; он может только сказать «нет» насилию. Это абстрактное «нет» сказанное миру вообще, в целом, не имеет адреса – «нет», означает лишь «нет» насилию вообще. Но этот, последний рубеж, отдав все остальное унижению, еврей не отдает: не принимает неправый мир. У товарища Сутина и Модильяни по ранним «ротондовским» годам, у Ильи Эренбурга в его первом и лучшем романе «Хулио Хуренито» есть сцена опроса людей разных национальностей. Хуренито предлагает немцу, французу, русскому, итальянцу, африканцу и еврею ответить: если можно оставить лишь одно слово – да» или «нет», какое вы выберете. Все, разумеется, выбирают «да», как положительное, сближающее. Один еврей отвечает: ««Учитель, я не солгу вам – я оставил бы „нет“. Видите ли, откровенно говоря, мне очень нравится, когда что-нибудь не удается, Я люблю мистера Куля, но мне было бы-приятно, если бы он вдруг потерял свои доллары, так просто потерял, как пуговицу, все до единого. (…) И когда официант, поскользнувшись, роняет бутылку дюбоннэ, очень хорошо! Конечно, как сказал мой прапрапрадед, умник Соломон: „Время собирать камни и время их бросать“. Но я простой человек, у меня одно лицо, а не два. Собирать, верно кому-нибудь другому придется, может быть, Шмидту(…)» Эренбург в этом отрывке предвидит «Neue Ordnung” , то, что условный “Шмидт” захочет “собирать камни”, чтобы строить новую империю. И вот этой новой империи, прошлой империи и всем возможным империям – еврей говорит “нет”. И раздавленные помидоры Сутина, его растерзанные улицы, его размазанные дома и кривые окна – это упорное «нет», сказанное художником миру. Отрицание в Ветхом Завете звучит почти столь же часто как утверждение разумности творения («увидел, что это хорошо»). Бог постоянно говорит «нет» своему народу, уличая его в идолопоклонстве и разврате, в подчинении царям и мелких страстях. Но и народ, в том числе в лице своих пророков, подчас говорит «нет» Богу, и речь не только об Иакове, нареченном Израилем, хотя эта история и символична. Иаков, боровшийся с Богом (в лице ангела) до рассвета, наречен именем «Израиль», что означает «борющийся с Богом», и эта ипостась – важнейшее из определений. Борьба с Богом заходила подчас столь далеко, что иудей вменяет Богу обвинение. Существует поразительная история суда над Богом, проведенного в Освенциме. Рассказал Эли Визель; он с родителями и сестрами (будущему писателю 15 лет) был в 1944 году из Венгрии депортирован в Освенцим, где вся семья погибла от истощения, сам юноша подружился с раввином, который стал учить его Талмуду. Визель стал свидетелем суда над Богом, который провели три заключенных раввина, знатоки Талмуда и Галахи. В Освенциме провели «раввинский суд, чтобы предъявить обвинение Всевышнему», процесс длился несколько вечеров, заслушаны свидетели. Господь был признан виновным в преступлениях против человечества, причин оправдать Бога не нашлось. Этот удивительный факт не опровергает веру, но утверждает ее высший принцип – свободной воли и служения истине; это согласуется с буквой Завета, и только этим может быть оправдана пристальная бдительность и жестокость Бога к грешникам; но если Бог нарушает то, что заповедовал сам Бог – иудей вправе осудить его, на то он и воплощенный «Израиль». Закончив суд над Создателем, раввин по воспоминаю Визеля, обвел слушателей глазами и сказал: «А теперь приступим к вечерней молитве».

Хаим Сутин "Бык"
4
Будет только справедливо осознать «парижскую школу» внутри французской культуры как инородное и нежеланное явление. «Еврейство» Парижской школы ощущалось всеми, и далеко не всеми поощрялось. Анри Матисс, чье мягкое соседство с режимом Виши до сих пор не получило адекватной оценки, высказывался так в 1924 году в интервью датскому критику Финну Гофману: "я не считаю положительным во всех отношениях то, что так много иностранных художников приезжает в Париж. Следствием этого часто является то, что эти художники несут на себе космополитический отпечаток, который многие считают специфически французским. Французские художники не космополиты ...» Затем Матисс уточняет, что в своем творчестве всегда опирается на национальное наследие. (Датское обозрение Buen №2, декабрь 1924, переведенное на французский язык в журнале Macula (№1, 1976). Это настроение (в сущности, не столько ксенофобское, сколько антисемитское, хотя употребляется термин «космополит») копилось во многих, и в момент оккупации Парижа в 1939 году возник характерный, суммировавший накопившееся чувство, протест против «нефранцузского искусства», как деликатно именовали Дерен, Вламинк, Матисс, Дюнуайе-Сегонзак творчество евреев. По сути, и надо отдавать в этом отчет, имелась в виду «парижская школа».
Следует произнести отчетливо, какой именно конфликт определял искусство Франции начала ХХ века. То было противостояние «парижской школы» и «школы французской», причем представители последней чувствовали себя оскорбленными в своих законных правах, как правообладатели французской культуры. Представители национальной традиции переживали то, что инородцы вошли в тело французской культуры. Надо отдать должное смелости Мишель Кон, которая, видимо, впервые произнесла необходимые слова: «Можно сказать, что за несколько лет до Второй мировой войны мир искусства был разделен между Франко-французской школой, укорененной во французской традиции, и иностранной (и часто еврейской) Парижской школой». Не имея возможности усугубить и развить отчаянное заявление, Мишель Кон (к ее работе еще следует вернуться) обозначила принципиальную позицию. Надо добавить, что «еврейская парижская школа» представляла свод республиканских принципов, тогда как Франко-французская школа представляла, и представляла полномочно, империю.
Художник-фовист Морис Вламинк, сотрудничавший с германскими властями (Вламинк ездил в Берлин на встречу с Брекером, вице-президентом имперской палаты по делам культуры), опубликовал статью против Пикассо (Comedia, 06.06.1942), упрекая иностранца Пикассо в том, что тот навредил национальной французской живописи в угоду транснациональным сомнительным ценностям. Слова «еврейское искусство» в статье не фигурируют, но между строк о еврействе прочесть можно: статья опубликована среди антисемитских материалов в антисемитской газете. Сам Вламинк, как и его друг, коллаборационист Андре Дерен, был декларативно «национальным» мастером, он воспел сельский французский пейзаж, бурное море, ветер, красоту родного сурового края, а «космополитов безродных» не любил. Матисс, человек исключительно осмотрительный, не замаравший себя прямым суждением, написал в письме своему вишистскому другу, что арест его жены и дочери (Амели и Маргрет были связаны с Сопротивлением) его компрометирует; Матисс в прямом антисемитизме не замечен, впрочем, с женой и дочерью мастер с 1939-го года не жил, политические взгляды рознились. Со всей определенностью следует сказать: французская школа осознала свою абсолютную и непримиримую противоположность «парижской школе». Критик, обслуживающий идеологию французской школы, Луи Воксель прямо обозначил " варварскую Орду "(иностранцев Парижской школы), которые " никогда по-настоящему не смотрели на Пуссена и Коро, никогда не читали басни Лафонтена, игнорируют и в глубине души смотрят свысока на то, что Ренуар назвал мягкостью французской школы." Оккупация Франции и правительство Петена подвели итог спору. Определение стилю «парижской школы» мы находим в письме Шарля Камуана (от 6 августа 1941) – своему постоянному корреспонденту Матиссу. Рассказав о лекции, в которой "еврейский" лектор назвал Пикассо величайшим французским художником нашего времени, и утверждал, что «он (Пикассо-МК) оказал французам честь, приехав во Францию работать», Камуан выражает негодование: "я уехал до конца ... Это еще одно доказательство влияния евреев в нашу эпоху, из которого возник стиль judeo métèque -центральноевропейский, вдохновителем которого является Пикассо." Judeo métèque – то есть: еврей-иностранец, еврей-эмигрант, в сочетании с определением места рождения «центральноевропейский» - дает точное представление о среде происхождения стиля: речь идет не об Испании, откуда родом Пикассо, но прежде всего о центральной Европе, то есть о Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Германии, Литве, Белоруссии – из местечек этих стран и приехали еврейские эмигранты в Париж; место их происхождения установлено. Тем самым, Камуан предложил определение стиля «парижской школы» - это еврейский эмигрантский местечковый жаргон. И, сколь бы нам сегодня не казалось данное определение обидным, надо отдать должное его меткости.
Действительно, произведения Сутина, Кремня, Паскина, Шагала, Цадкина и прочих евреев из местечек центральной Европы, отличает вызывающая провинциальность, бросающаяся в глаза знатоку прекрасного. Затруднительно подобрать неоскорбительное слово, которое передавало бы оттенки неприязни к такому рисованию и таким художники: наиболее точным словом является «дворняга». Беспородность сказывается в том, как Сутин или, тем более, Кремень вульгарно кладут цвет, провинциальность есть в том, как Паскин ведет кривляющиеся линии: они не знают этикета живописи. А этикет во французской живописи значит очень многое еще со времен школы Фонтенбло. Конечно, наивная провинциальность приезжих умиляет, а для того, кто видит гуманизм картин Шагала и человеколюбие Сутина, провинциальность даже определяет искренность картины – но вряд ли приметы местечкового происхождения можно спрятать от придирчивого взгляда ревнителя традиций письма. Если добавить к этому неопрятный вид, корявое произношение, вопиюще еврейские черты лица, то нашествие подобных персонажей – ничего кроме досады у французских метров не вызывает. В уличном жаргоне 21ого века возникло слово, описывающие неприязнь к восточным эмигрантам, затопившим Европу и Россию; слово - «понаехали». Именно это и обсуждается в переписке Матисса и Камуэна.
Тезисы Мишель Кон таковы: «Мнение Матисса касательно исконно французских художников как принципиальных «не-космополитов», высказанное в интервью, было больше, чем просто "единичное замечание" (как это трактует Сперлинг), это было выражение позиции в серьезной дискуссии, исключительной во время Виши и касалась вопроса художественного декаданса в живописи Парижской школы, гнусного влияния иностранных талантов на французское искусство и работы Пабло Пикассо.(…)Иностранным художникам, говорил Матисс, было бы лучше остаться в своей стране, искать свои национальные традиции и позволить французскому искусству процветать во Франции».
Глядя на данную историю из XXI века, помня компании против «безродных космополитов» и «жидовствующих», характерные для гитлеровской Германии и сталинской России, и сравнивая характерные слоганы недавнего прошлого «тебе здесь не нравится? Уезжай к себе в Израиль», или «чемодан-вокзал-Израиль» и тп, надо заметить, что в наши дни призыв убираться «к себе в Израиль» звучит сравнительно безобидно, поскольку государство Израиль существует и в него теоретически можно «убраться». Но в 30-40е годы прошлого века Израиля не существовало, и «убраться» можно было только в братскую могилу. Безусловно, Анри Матисс и близко не имел в виду ничего подобного, а призыв «оставаться в своей стране и искать собственные национальные традиции» подразумевал всего лишь то, что Сутину лучше бы остаться в Смиловичах, Шагалу - в Витебске, Тцара - в Мойнешти, а Паскину - в Видине, и трудиться на месте рождения, в черте оседлости. Правды ради, податься этим фигурантам «парижской школы» было особенно некуда – евреев не привечали нигде, а в скором времени их местечки будут сожжены дотла. Участники «Парижской школы», те самые эмигранты, что вызывали раздражение, принесли особую ноту в искусство Франции – сочувствие и сострадание к нищим и бродягам, к беженцам и эмигрантам, к тем, кто слабее тебя. На общем фоне радостного фовизма это мелодраматическое искусство было крайне заметно, взывало о сочувствии. Но нужно ли было сочувствие? Восприятие «парижской школы» (с 1902 до 1939 отношение успело оформиться), - позволяет сделать вывод, что неприязнь к «абстрактному гуманизму» была сформулирована отнюдь не сталинскими и даже не гитлеровскими идеологами. Неприязнь к «абстрактному гуманизму» была выношена еще во времена импрессионизма и дела Дрейфуса, еще в то время, когда Эдуард Мане писал портрет Клемансо.
Мы не приблизимся к пониманию феномена «парижской школы», если не увидим собрание живописцев Латинского квартала, участников «праздника, который всегда с тобой» - в контексте оппозиции «французской школе», оппозиции, надо признать, не задуманной самими участниками праздника, но навязанной им. Стараниями французских художников, этнических французов, остро реагирующих на присутствие инородцев в искусстве, возникло противостояние исконно французского искусства и «парижской школы», космополитов безродных. Обиженные за «здоровое, национальное» искусство, оскверненное «инородцами» во Франции, мастера подлинно французской культуры нашли понимание в гитлеровской культурной администрации. Гитлеровская оккупация лишь добавила аргументов в давно сформированную неприязнь к еврейскому искусству.
Тем самым, понятие «парижская школа» приобретает, помимо художественных примет (условных, поскольку стиля общего нет), помимо характеристик этических (собрание изгоев и республиканцев), еще и социальные характеристики. Учитывая войны, принимая в расчет изменения общества, можно оценить временные границы «парижской школы» и расширить их – речь идет не только фигуративных холстах Модильяни, Пикассо, Шагала и Сутина. Полагаю, что явление «парижская школа» существовало и было актуально вплоть до оккупации, то есть, с начала века до 1939 года и уверен, что «кубизм», несмотря на стилистическое отличие от фигуративной живописи обитателей «Ротонды», следует также относить к «парижской школе». Причем, и это принципиально, современное «парижской школе» и кубизму движение «фовистов» - смыкалось с германским экспрессионизмом именно как национальное, почвенное выражение страсти. И фовизм и экспрессионизм относились к цвету как к «стихии», как к властной природной силе, живущей помимо разума. Существование помимо рационального начала, по мнению фовистов и германских экспрессионистов, высвобождало нутряную, почвенную страсть. Надо помнить, что республика Виши воспринималась как «национальная революция», а вовсе не марионеточный режим; собственно, «вишизм» и не был марионеточным режимом – это было национальное французское правительство, выражавшее строго определенную концепцию, которая в обществе имелась. Главный лозунг идеологии Виши «Земля, она не лжет!» был использован для того, чтобы противопоставить подлинно национальное французское искусство – творчеству тех, кого в сталинской России чуть позже именовали «космополитами безродными», а в гитлеровской Германии называли «жидовствующими». Причем обвинение такого рода вменялось не только собственно евреям по крови, но всем тем, кто представлял не-почвенное искусство. Раздражение на «парижскую школу», копившееся годами, нашло выход. Чтобы прояснить диспозицию, приведем несколько цитат из статьи Мориса Вламинка, опубликованной в журнале Comoedia- 06.06.1942
«От Редакции
Передавая нам эту статью, Морис де Вламинк настоял на том, чтобы взять на себя всю ответственность за нее. Мы захотели опубликовать данный текст, потому что уровень высказывания, по нашему мнению, превосходит статьи различных тенденций. (…)»
Ниже цитаты из статьи»
«Трудно убить то, чего не существует. Но если это правда, что есть мертвецы, которых нужно убить, я считаю необходимым убить их. Строки, которые последуют, были написаны безвозмездно и по совести, без забот о разговорах, которые они вызовут, или о ненависти, которую они разожгут, или об амбициях, которые будут задеты. »
Как видно из первого же абзаца, автор (Вламинк) не считает явление, которое намерен осудить реально «существующим» в культуре, на его взгляд, это мертвечина, привнесенная в искусство Франции. Далее :
«Я вижу, как молодые художники (…) колеблются перед путаницей дискуссий о живописи и задаются вопросом, быть ли им самими собой или полагаться на формулы, такие как, например, кубизм. Я пишу для них и для того, чтобы мои уточнения привели молодежь к определенности и дали понять то, что они с трудом различают. Таким образом я выполню свой долг перед живописью». В статье Вламинка присутствует пафос человека, ответственного за здоровье Отечества; и это совсем не случайно: согласно идеологии Виши, происшедшее расценивалось как «национальная революция» и лозунг Республики и Революции «Свобода, Равенство, Братство» был заменен на «Труд, Семья, Отечество». Этот лозунг правительства Виши – принадлежал не собственно Виши, это лозунг лиги «Огненные кресты», возникшей после Первой Мировой, как оппозиция идее «республиканизма». Идея республики трактовалась «Огненными крестами» (как трактуется почти всегда сторонниками империи и почвенной идеологии) как космополитическая и универсалистская – поэтому отрицалась. Так называемые «естественные корпорации» - семейная, профессиональная, земляческая – в представлении лиги «Огненных крестов», объединялись в корпорацию высшего порядка – нацию. Режим Виши, как он сам себя осознавал и чем он объективно являлся, стал реваншем антиреспубликанских сил. Правительство Виши строило «Новую Францию», а еще точнее, возрождало «вечную Францию» образца до 1789 года. И уж в этом смысле «Парижская школа» - все эти паскины, пикассо, сутины и шагалы – симпатий не вызывала. Помимо прочего, Вишистский режим был сугубо католический; в комбинации с анти-республиканизмом это в той же мере противостояло «Парижской школе», в какой совсем недавно версальцы противостояли «Парижской коммуне».В октябре 1940 года в республике Виши обнародован так называемый «Статут о евреях», (никоим образом не навязанный Гитлером) и таким образом с равенством прав и идеей «гражданства» покончено. Коммунисты, евреи, цыгане, франкмасоны, иностранцы вообще, гомосексуалисты объявлены «выпавшими из национальной общности. Именно в этой связи и появляется своевременная статья Мориса де Вламинка.
Первая часть статьи посвящена разбору личности Пикассо. « (..)каталонец с фигурой монаха, глазами инквизитора, который говорит об искусстве с затаенной ухмылкой, которая не доходит до его губ ». Вламинк описывает Пикассо (прилагательное « ревниво » в данном случае не тенденциозно) как «весьма хитрого циника, не одаренного собственной художественной личностью, который “берет взаймы” тут и там: у древних мастеров, у Сезанна, Дега, Лотрека, у греческих скульптур и вплоть африканского искусства, и перемешивает все в некий винегрет ». На вопросы о значении собственных работ Пикассо «отвечает нарочито таинственными словами». Вламинк противопоставляет успеху Пикассо – честный труд Сезанна. И далее: «живопись во Франции умирает от трюков, комбинаций в менее требовательной и в менее честной атмосфере, нежели существует у нас, в Академии французских художников (Academie des Аrtistes Français)». Любопытно, что сорок лет назад статьи такого рода писали против Сезанна, противопоставляя ему – Академию. Морис де Вламинк (он гордился дворянской фамилией) , который говорил, что «любит ван Гога больше, чем своего отца», повторяет те реплики, которыми гнали ван Гога (голландца, кстати будь сказано, но возможно фламандские корни Вламинка с этим фактом примиряли). «Пикассо виновен в том, что он загнал французскую живопись в самый страшный тупик, в неописуемую путаницу. С 1900 по 1930 год это привело к отрицанию, беспомощности, смерти». Упрек в нездоровье, ущербности, беспомощности и даже мортальности – типический: так формулировали в Германии претензии к «дегенеративному» искусству. Далее Вламинк пишет следующее: «Пикассо поощряли сообщники всех мастей, к нему привязывались самые недееспособные. Таким образом, он создал новую школу "Кубизм", которая сделала живопись доступной любому». Имеется в виду то, что «прием» кубистического изображения легко освоить. Впрочем, как видим дальше, дело не в самом кубизме: «(…)дело в том, что кубизма не существовало, - существовал Пикассо. Какой обман, какая претензия: проникнуть в божественный смысл мира с помощью метафизического абсурда Каббалы или Талмуда!?» Учитывая то, что Пикассо в соседней статье называют «еврейским марксистом» (это распространенный эпитет для Пикассо), указать на то, что Пикассо прибегает к помощи Каббалы и Талмуда, весьма своевременно. Поражение евреев в правах – и это надо сказать отчетливо – проводилось правительством Виши добровольно с 1940-ого года, и с 1942 года правительство Виши депортировало тысячи евреев в германские лагеря смерти, и официально признано повинным в Холокосте. Но дело в ином: поражение евреев в правах воскрешало недавний и незабытый процесс Дрейфуса, и те участники Сопротивления, которые помогали евреям переходить границу (как например Дина Верни, натурщица Майоля) были попросту наследницами «дрейфуссаров», а те, кто оказался соучастников преследования евреев – были всего лишь традиционными «анти-дрейфуссарами». И Вламинк в старой доброй традиции писал текст, классический для французского антисемита.
Завершается статья следующим пассажем «Коллективное заблуждение, которое поощряли критики, заставило забыть здравый смысл и истинные чувства. (…) Извращение духа, неполноценность, аморальность, далекая от живописи настолько, насколько педерастия далека от любви».
Мишель Кон (Michele Cone) в своей книге «Французский Модернизм: Преспективы искусства до, во время и после Виши» ( French Modernisms: Perspectives on Art before, during and after Vichy (Cambridge 2001) исследует сотрудничество (или соглашательство, или приятие – в зависимости от того, какое именно слов кажется пристойнее) Андре Дерена, Мориса де Вламинка, Андре Дюнуайе де Сегонзак и Анри Матисса в Париже с идеологией оккупационных властей – и с новой моралью, которая (и в том была сила и правота позиции анти-дрефусаров) казалась им старой и глубоко органичной. Нужно учесть, что неприязнь агрессора к авангарду преувеличена; нацистская идеология вовсе не отрицала «бурю и натиск», резкий жест, отчаянный мазок, яркую краску - прямо наоборот. Эдварда Мунка, Мориса Вламинка и Анри Матисса – не просто любили, но обожали. Привязанность культурных германцев к классической французской культуре не исключала того, что картины еврейских художников резали и жгли продукцию «дегенеративного искусства», но фовистские полотна Дерена или Вламинка украшали Осенние салоны. Ниже цитата из работы Мишель Кон: «Художники французского происхождения, имеющие хорошую репутацию, могли продолжать выставляться до тех пор, пока они ставили свои подписи под документом, озаглавленным: "я удостоверяю, что я француз, а не еврей." Источник - страницы подписей из "Осеннего салона" 1942 года». Иными словами, как бы ни было нам неприятно это сознавать, Анри Матисс и Андре Дерен ставили свои подписи, удостоверяя, что в них нет еврейской крови – и, возможно, именно в этот самый момент «парижской школе» как феномену Парижской жизни, пришел конец.
Правительство Виши, сохранявшее влияние в оккупированном Париже (по Второму Компьенскому соглашению Атлантическое побережье Франции и Париж были оккупационной зоной с согласия вишистского правительства, а остальная Франция стала республикой Виши) , приветствовало возрождение национального французского искусства, и германская политика в оккупированном городе стремилась оживить культурную жизнь Франции. Коллаборационизм Коко Шанель, Мориса Шевалье, Сержа Лифаря – широко известен и давно прощен; то, что Лифарь в день взятия своего родного Киева нацистами послал поздравительную телеграмму Геббельсу, уже как бы и не считается. Но прежде всего, конечно же, возрождали «фовистов», коих интернациональная живопись «парижской школы» досадным образом потеснила в предвоенные годы. Будили почвенную, патриотическую живопись, которую прежде душила «еврейская мертвечина». Спустя двадцать лет, фовизм в моде опять! В июне 1942 года в галерее Франции состоялась групповая выставка картин фовистов ("Les Fauves 1903-1908"). Картины фовистов посылают в Испанию, Португалию, Швейцарию – в это время Шагал эмигрировал, Сутин тщетно добивается паспорта на выезд, скрывается и умирает, Паскин уже повесился, Пикассо не выставляется. Вокруг личного отношения к политике ведутся споры, это исключительно болезненный предмет, хотя трудно не согласиться с тем, что, когда евреев посылают в газовые камеры, художник-гуманист (как правило) может иметь на этот счет некое мнение. Издание первой книги Мишель Кон "Художники под Виши" (Artists under Vichy, Princeton, 1992) стало предметом полемики; как пишет сама Мишель Кон: «уже сам вопрос (о Матиссе – МК) вызвал неудовольствие Хилари Сперлинг, автора "Матисса-мастера", второго тома ее хваленой биографии. По словам Сперлинг, в моем вопросе содержался намек, на психологический сговор Матисса в годы оккупации с нацистами или пассивное сотрудничество с "фашистскими властями"." "Психологический сговор", "пассивное сотрудничество" - это не мои слова. Что касается" фашистских властей", подразумеваемых в этом сговоре или сотрудничестве, то, хотя между профашистским правительством Петена, бежавшим из французского города Виши, и нацистскими оккупантами, правившими из Берлина, существовала связь и много" сотрудничества", они были совершенно отдельными образованиями, и для французского человека было возможно быть анти-нацистом и сторонником Виши». Приведенная развернутая цитата Кон позволяет увидеть проблему яснее: вовсе не обязательно формально сотрудничать с нацизмом; достаточно разделять энтузиазм от подъема национального искусства – это ведь нельзя вменить мастеру в преступление? Правительство Виши не было формально нацистским; но программа Виши, говоря по существу, мало чем отличалась от программы германских нацистов, включая пункт депортации евреев в лагеря уничтожения.
«Возрождение» - Les Fauves во время оккупации было символичным: возрождали национальный дух Франции, природную мощь. Разумеется, участников «праздника, который всегда с тобой» возрождение коснуться не могло; зато Матисс, несмотря на проблемы со здоровьем, принимает активное участие в выставочной жизни. Помимо выставок - выступление на радио Diffusion Nationale de Nice, филиале официального радио Виши, регулярные интервью в официальных изданиях: Comoedia, Nouvelle Revue Francaise, Les Beaux Arts, Le Rouge et le Bleu. Картины Матисса выставлены вместе с произведениями прочих французских фовистов на Осеннем салоне 1943 года и на групповых выставках галереи Шарпантье. Картины Матисса включены в выставку "Les Fauves" в галерее Франции в июне 1942 года, в выставку современного французского искусства, официально отправленную в Испанию в 1943 году. Правительство Виши купило два рисунка с его выставки последних рисунков в галерее Луи Карре в 1941 году.
Впрочем, не стоит все списывать на оккупацию: разграничение Франко-французской школы и Парижской школы началось еще в Берлине в 1937 году на выставке "Современное французское искусство", организованной нацистским и французским культурными министерствами. То была обширная и репрезентативная выставка. Выставку эту подзабыли (не любят вспоминать, что точнее), поскольку она проходила одновременно с печально известной выставкой «Дегенеративного искусства» в Мюнхене в том же 1937 году, и с Всемирной выставкой Искусства и техники в Париже в том же 1937-ом. И тем не менее, выставка «Современная французская живопись» состоялась в июне-июле 1937 г. в Берлинской Академии Искусств (Akademie der Kunste, Berlin, Pariser Platz, 4). Выставка, как означено на титульном листе каталога, пребывает под покровительством (unter Schirmherrschaft) рейхштатгалтера Германа Геринга и французского посла в Германии Андре Франсуа-Понсе.
Три вещи представил Андре Дерен, пять вещей - Дюнуайе де Сегознак, три картины - Рауль Дюфи, три кратины Отон Фриез, две вещи – Фернан Леже, три картины – Альбер Марке (отдельного упоминания заслуживает то, что Марке уехал на время войны в Алжир и не был коллаборационистом; напротив, сочувствовал Сопротивлению), три картины – Анри Матисс, одна вещь – Максимилиана Люса, три вещи Эдуара Воллара, и три вещи Мориса де Вламинка. Из скульпторов упомянем Бельмондо (отца актера) и Аристида Майоля, представившего две вещи. Одна из них, за каталожным номером 345, «Femme a la draperie» (женщина в покрывале) обозначена как частное приобретение – это потому, что скульптуру приобрел Адольф Гитлер.
Место рождения всякого художника четко указано в каталоге, поскольку представляют французское искусство только этнические французы. Перечисление данных и имен, столь же утомительно, как перечисление подписей писателей, осудивших Пастернака или требовавших изгнания Солженицына; тем не менее, подробности надо знать, чтобы составить мнение об времени. Именно так уходила в прошлое «парижская школа». Иностранец Пикассо, евреи Шагал и Сутин, разумеется, на данную выставку не допущены. Остается спросить себя: так ли страшна нацистская Германия летом 1937 года. Ведь до Хрустальной ночи остается еще целый год. Правда, Брехт уже написал «Страх и нищета третьей империи», правда, из Германской академии исключены Отто Дикс и Эрнст-Людвиг Кирхнер, правда, из Германии бегут евреи и инакомыслящие, и если начать копаться в деталях, то можно найти неприятнейшие вещи; но, будем справедливы к мэтрам французского искусства: если никому неизвестные художники Анна Ратковская или Отто Фрейдлих или Якоби бегут из Германии, если проводится компания против «Вырожденческого искусства», даже если их коллегу исключают - значит ли это, что из солидарности надо не показывать искусство здоровое? Поскольку печать каталога, отпечатанного в типографии Heyn Erben в Берлине, вполне качественна, можно подробно рассмотреть большинство картин. Все произведения демонстрируют исключительно полнокровную, здоровую, радостную жизнь. И почему мастер, создавший «Joie de vivre”, должен стесняться того, что он любит жизнь? Считается, что есть градации принятия зла: одобрение зла, сотрудничество со злом, соучастие в преступлении. В годы сталинизма и тем более в вегетарианские брежневские годы, когда наказания настигали инакомыслящих избирательно, сохранить статус «порядочного» было сравнительно легко – достаточно не подписывать писем: в сталинские годы – требовавших казни, в брежневские – исключения из партии. О том, чтобы не участвовать в собрании, речи не шло (это немыслимо), но считалось смелостью воздержаться при голосовании. Это пассивное неприятие мерзости почиталось «гражданской позицией», и надо со всей определенностью сказать, что такой гражданской позиции у Анри Матисса не было. Было нечто иное. Сам Матисс говаривал, что искусство он ставит превыше всего: жене, еще до свадьбы, он заявил, что любит живопись больше, чем ее; и уж тем паче художник любил свою живопись больше, чем «парижскую школу». Странно предъявлять претензии в черствости тому, кто заранее предупредил, что он не способен к пристальному сочувствию, пребывая в эмпиреях. Когда искусство осознается как нечто божественное, высоко вознесенное над действительностью, то служба прекрасному как бы освобождает от ответственности перед мерзостями на земле; однако искусство, сколь бы высоко ни парило, подпитывается энергией земли; получается так, что энергетика земной жизни превращается средствами искусства в божественный продукт, что уже недоступен земной этике. Скажем, Леонардо вдохновлен бренной красотой юноши, гармонией тела – и преобразует земные черты в красоту ангела. На земле юноша возможно, не столь добродетелен, но образ ангела недоступен земному суду. В творчестве «фовистов» в прекрасное должна обратиться энергия земли и почвы, напор первозданной стихии цвета, и природная эманация силы была объявлена той стихией, что вознеслась над буднями. Иными словами, в статус «божественного» была переведена энергия земли. Можно расценить это как своего рода «пантеизм», так некоторые и расценивают. Стихия цвета (лишенная, разумеется, моральных и дидактических категорий, поскольку это сила природная) становится как бы сверх-моралью, достигая статуса прекрасного, обращается в «хорошее», поскольку стала уже божественной. В этом состоит пафос «фовизма», пафос пробуждения природных сил почвы и человека, стремления к радости и полноте жизни. Вопрос, который часто возникает в связи с картиной «Радость жизни», звучит наивно, но тем не менее, от него нельзя отказаться: насколько всеобъемлюща эта радость жизни? Включает ли радость жизни в себя болезнь и боль, и в особенности боль другого? Основная проблема пантеистической онтологии Спинозы – и этому посвящены все его сочинения – в том, как совмещается пантеизм (то есть, власть стихии) и индивидуальная этика, обязанная различать добро и зло. Но в фовизме, воспевающем власть стихии, этики программно не существует; работы Матисса вне этических категорий, как, собственно, нет этических категорий и в его гражданской позиции. Если мастер столь истово служил чистому цвету, что не заметил того, насколько его позиция удобна идеологии Виши, это понятно. Но в таком случае стоит понять и то, что равно к такой же энергетике стихий стремился и фашизм в ярких и романтических проявлениях.
Сказанное не бросает на Матисса тень, разве что яркую цветную тень, сообразно его собственной эстетике: в сущности, Матисс лишь повторял реакцию Эдгара Дега на процесс Дрейфуса, и почему французский художник должен стесняться того, что он французский художник? В сущности, сам Матисс вынес себе оценку точнее прочих. Узнав об аресте Вламинка после освобождения Парижа в августе 1944 года (Морис де Вламинк был арестован как коллаборационист) Матисс пишет в письме Шарлю Камуану (письмо от 16 ноября 1944 года, ссылка представлена Мишель Кон) "в принципе, я думаю, что не следует мучить тех, у кого идеи расходятся с их собственными, но это то, что сегодня называется la Liberté." К этому, в высшей степени мудрому, заключению можно прибавить, что в отношении космополитов Матисс не выстроил схожего силлогизма (например, не стоит осуждать тех, у кого понятие «родина» рознится с вашим). «Тот факт, что Вламинк был на стороне тех, кто причинил его жене Амели и дочери Маргарите большой вред в годы оккупации, ускользает от сознания великого мастера», пишет Мишель Кон. Но возразить Мишель Кон просто: ведь Матисс был выше подобных соображений; как сказал художник Жоржу Дютуи (Georges Duthuit) он приспособится к " любому режиму, любой религии, лишь бы каждое утро в восемь часов я мог найти свой свет, свою модель и свой мольберт" (Transition Forty Nine, no. 5, December 1949, p. 115).
Художник – существо сложное, применять к вдохновению и артистизму те же критерии, что к журналистике, трудно. Не только Матисс, но и Пикассо жил в Париже, и, хоть не выставлялся, пользовался определенными привилегиями славы. Атмосфера оккупированного города, сохранившего салоны и выставочные залы – особая. Существует фильм-притча, своего рода трагический фарс, «Через Париж» (1956 режиссер Отан-Лара), сюжет фильма таков: два случайных посетителя кабачка вызвались перенести через ночной город контрабандную свинину. Их нанял хозяин заведения; предприятие рискованное: спекуляция, контрабанда, нарушение комендантского часа. Их хватают: один оказывается безработным, проделка была возможностью заработка; другой- знаменитый художник, мировая величина, для него это просто веселая авантюра. Немецкий офицер, узнав мэтра, рассыпается в любезностях и отпускает Пикассо (в фильме намек на Пикассо, играет персонажа Жан Габен), а его подельника (играет Бурвиль) отправляют в лагерь. Художник делает попытку заступиться за ночного товарища, но офицер лишь разводит руками. Мораль горька: знаменитость всегда договорится с оккупантом, а простой человек сгинет.
Понятие «коллаборационизм» растяжимо, им легко заклеймить, но существуют тысячи обстоятельств, которые следует принять в расчет. Во время президентства Миттерана, который начинал как про-вишистский политик, а закончил «голлистом», обнародовано множество неизвестных документов, и появился соблазн использовать их, разоблачать авторитеты.
Характерна рецензия самой Мишель Кон на работу коллеги, написавшего на ту самую тему, что и она: Фредерик Споттс выпустил книгу «Постыдный мир» (Frederic Spotts “Shameful Peace” Yale University Press 2008), в которой Споттс зашел далеко, характеризуя Матисса и Брака как artfull dodger "хитрых ловкачей", и «применяет слово "коллаборационист" весьма вольно». Мишель Кон, как пристало ученому, призывает ссылаться только на факты, а факты сложны, противоречивы. Да, Аристид Майоль дружил с Брекером, но использовал эту дружбу для освобождения своей модели и возлюбленной Дины Верни, которая иначе отправилась бы в лагерь Дранси, и т.д. Жизнь, как показывает фильм «Через Париж» сложнее схем. Вот и Пикассо не смог освободить Макс Жакоба, как герой фильма «Через Париж» не сумел спасти подельника. То, что подобное говорит сама Кон, сделавшая много для уточнения позиций художников, важно.
И, тем не менее, именно потому, что в задачу данной книги (и даже данной главы) не входит обвинение, требуется обозначить понятие «факта» в отношении истории и в отношении искусства. Картины художников являются значительно более существенным фактом нежели газетная статья. Картина – не иллюстрация к факту, картина, сама по себе, – факт. Анри Матисс и Пабло Пикассо написали достаточное количество холстов на протяжении войны, картины являются самым главным доказательством, и нет надобности искать иных свидетельств.
Анри Матисс во время войны писал ярких обнаженных и пестрые букеты, не создал ни единого холста, который можно было бы квалифицировать не только как «трагический», но как «меланхолический». Пикассо, после того как создал «Гернику» и «Мечты и ложь генерала Франко» и до 1944 года, на протяжении семи лет писал черепа, кошек, пожирающих голубей, искореженные и перекрученные тела, обезображенные лица – писал горе человечества.
Какие бы документы не приводились ради разъяснения обстоятельств, эти аргументы ничего не стоят перед лицом картин.
В августе 1944 года Париж был освобожден, в город вошли части генерала Леклерка, вместе с партизанами в город вошел и Хемингуэй, писатель вернулся в «праздник, который всегда с тобой». Но «парижской школы» уже не было. Большинство эмигрировало, Макс Жакоб погиб в лагере, Сутин прятался, но умер от неудачной операции. Пикассо, не выставлявшейся во время оккупации, получил собственный зал на Осеннем салоне. Матисс написал Камуану (16 ноября 1944 года): "вы видели зал Пикассо? Об этом много говорят. На улицах были демонстрации против этого явления. Какой успех! Если раздадутся аплодисменты, свистни."
И впрямь, во время первой послевоенной выставки Пикассо, были демонстрации против «жидовствующего марксиста» Пикассо; но как бы там ни было, он вернулся, а вот «парижская школа» уже не вернулась. Теперь, рассмотрев это явление и с социальной, и с художественной точки зрения, можно вынести суждение. Но есть еще одно обстоятельство, мешающее ясности.
5
Поражение фашизма, освобождение Парижа, денацификация Германии и расправа с коллаборационистами в Париже – открыли возможности гуманистическому и социалистическому искусству Европы; в последующие десятилетия (до 1968ого года) картины Пикассо, Шагала, Сутина и книги Камю, Сартра, Белля, Хемингуэя стали для Европы не столько эстетическим, сколько моральным образцом.
Но произошло не только это. Как всегда бывает, победа имеет двоякий, противоречивый эффект.
Романтический облик борца с фашизмом казался естественным в 20-е годы; в 40-е художники сопротивления смотрелись героями; но в 50-е годы романтическими стали выглядеть именно фашисты, те из них, кто не был замаран прямо в участии в зондер-командах, но разделял идеалы фашизма. Прошло весьма короткое время и ореол «романтики» перешел именно к ним, ставшим, как считали некоторые интеллектуалы, жертвами левой буржуазной пропаганды.
Победу над фашизмом в числе прочего объявили победой старой буржуазной цивилизацией над «новым миром», который, возможно, манифестировал себя несколько брутально, но в целом вел прочь от цивилизации приобретательства.
Поскольку фашизм имел анти-буржуазную программу, а истинный творец обязан противостоять буржуазному духу, то в фашизме (и особенно в побежденном фашизме) стали видеть не только отрицательные стороны. Еще до войны фашизм был привлекателен для художника. Не только официальные художники типа Брекера, Рифеншталь и Шпеера, но и авангардисты-бунтари: Маринетти, Боччони, д’Аннунцию, де Кирико, Юнгер, Малевич, Родченко и тд, были по существу своего творчества фашистами; но после разоблачительных процессов, арестов, тюремных заключений и ссылок, после отстранений от преподавания и высылок из страны – жертвами предстали те творцы, которые связывали свои эстетические взгляды с фашизмом.
Среди пострадавших оказались Эзра Паунд, Фердинад Селин, Марсель Жуандо и наиболее заметной фигурой, конечно же, был Мартин Хайдеггер. Философ, которого спасала от расправы его возлюбленная, автор термина «тоталитаризм» и апостол демократии Ханна Арендт, которого чтил Сартр, был членом НСДAП и, на время отстраненный от преподавания, вернул себе статус весьма быстро. Хайдеггер видел в фашизме форму живого конструктивного мышления, объединяющего все сферы человеческой деятельности, сливающего искусство и политику, благодаря чему нация и общество становятся произведением искусства. Высшее достижение политики проявляется, по Хайдеггеру, в таком обществе, где интимное и и национал-культурное слиты воедино. Таким образом, фашизм (нацизм) для Хайдеггера стал эстетической категорией, формирующей свою собственную мораль. Оправданный философ навеки приобрел если не ореол «мученика», то во всяком случае стал отныне считаться жертвой левой идеологии, не желающей брать в расчет замысла философии. Преданность Хайдеггера буквальной программе нацизма обсуждается в сослагательном наклонении, и даже публикация так называемых Черных тетрадей (Schwarzen Hefte) в 2014 год не отрезвила почитателей. Сходным образом сложилась судьба Селина, высланного из Франции, не отказавшегося от фашистских и антисемитских взглядов (как никогда не раскаивался в таковых и Хайдеггер), продолжавшему утверждать, что Холокост выдуман, и тп. В одном из последних интервью Селин говорил, что евреи должны быть ему благодарны за то, что он не вредил им так, как мог бы, в то время как сами они поддерживали Гитлера (речь идет, добавлял писатель о богатых евреях, разумеется). В том же духе выступал после войны и Эзра Паунд, заключенный в психиатрическую лечебницу. Как это ни странно звучит, но Гитлер до войны дейстивтельно получал разнообразную помощь от американских финансистов (включая, например, Форда) и, возможно, в числе прочих, его финансировал и еврейский капитал: пути капитала неисповедимы. Поскольку после войны картины евреев, таких как Сутин, Шагал, Модильяни, стали частью дорогого рынка, получилось так, что гонимые прежде – теперь представляют буржуазию, которая мстит идеалистам. Причем, поскольку Эзра Паунд, Фердинанд Селин, Марсель Жуандо формально принадлежали парижской культурной жизни и могли именоваться «парижской школой», возникла путаница в определениях. Биография Паунда и замысел его «Кантос» вписаны в парижский карнавал; интерес поэта к Провансу и средневековью совпадал со вкусами «парижской школы»; Хемингуэй включил Паунда в пантеон «Парижской школы» за ненависть к компромиссам. Поэма Паунда построена как последовательная критика мирового порядка. Причину бед поэт именует «Узура» – определение мифической субстанции, управляющей алчной цивилизацией. Глянцевая Узура задумывает войны, стравливает народы, получает финансовую выгоду. Паунд, как и прочие обитатели безденежного Латинского квартала, не состоял в партиях; но ненависть к ростовщичеству англо-саксонской цивилизации привела его к фашизму. После войны все смешалось: разве изгои Парижской школы не презирали буржуазный Лондон, подобно Паунду? И буржуазный Лондон платил выскочкам взаимностью. Известно, как Уинстон Черчилль сказал своему секретарю: «если бы Пикассо был здесь в этом саду, я бы дал ему здоровенного пинка». Черчилль был капиталист и слащавый художник, а Пикассо был коммунист и очень хороший художник; но Черчилль как и Пикассо боролся с фашизмом, а бескорыстный Паунд был за фашизм. И вот Пикассо оказался в победителях вместе с Черчиллем, а искренний Паунд, упрямый Селин и гордый Хайдеггер порицаемы за фашизм. Социальный экстремизм Риверы и Сутина был сродни экстремизму Паунда; мистицизм и визионерство Модильяни – сродни видениям Паунда; и вот члены «парижского братства» в фаворе и знамениты, а их собутыльник - изгой в сумасшедшем доме. Да, Паунд увлекся, даже переехал в марионеточную республику Сало, чтобы разделить последние дни Муссолини. Здесь же был арестован, выдан в Америку, судим, 12 лет провел в принудительной госпитализации в сумасшедшем доме в Америке; но ведь никто не судит большевика Сикейроса за покушение на Троцкого, никто не говорит о том, что в интербригадах рядом с анархистами сражались сталинские агенты, расстреливавшие Интернационал. Интеллектуал, всего десять лет назад ненавидевший фашизм во всех его проявлениях и принимавший все «левое», начинает сомневаться, насколько справедлива и чиста альтернатива фашизму? Еще не прозвучали разоблачения ГУЛАГа, еще не возникла концепция Нольте, объявляющая фашизм – ответом на коммунизм, в котором на классовый геноцид всего лишь ответили национальным геноцидом. Еще не началась полемика Франкфуртской школы с Нольте, обо все этом надо сказать в следующих главах; но уже возникла закономерная путаница касательно художников: а кто же, в самом деле жертва? В те годы подлинно артистичной становится позиция, принимающая условный «фашизм» Паунда или Селина. В конце концов, еще Шиллер считал, что эстетизм (эстетическое воспитание) преодолеет противоречие между свободой и необходимостью. И, если понимать фашизм именно как эстетический идеал (а Паунд, и Селин очевидные эстеты), то в целом их позиция выглядит более последовательно, нежели у анти-фашиста Пикассо, который пришел к коммерческому успеху.
Дилемма европейского художника: выбрать между Сциллой буржуазного рынка и Харибдой тоталитаризма, подчиниться «Узуре» капитализма или утопической казарме, как кажется, иного решения не имеет. Здесь уместно вспомнить англичанина-традиционалиста, Честертона, ненавидевшего (как и парижские «телемиты») буржуазную цивилизацию, авангард и прогресс, и неизбежно дрейфовавшего в сторону фашизма (его кузен стал заместителем Мосли); Честертона от партийного фашизма удержал католицизм – хотя, конечно же, дань антисемитизму и поклонению Муссолини отдал и он. Встав в оппозицию к англо-саксонскому ростовщичеству, как не попасть под обаяние фашистской обновляющей морали? Уильям Блейк , как и поздний Паунд – до неразличимости схож в своих образах с колоссами Брекера, певца Третьего Рейха: пекся английский певец 18 века лишь о народном самоопределении, а титаническая мифология рождалась как бы сама собой.
И Блейк, и Паунд создают образы первозданной чистоты, нарочито устраняя все, что может связать с буржуазным миром (Блейк отмежевался от академии Рейнольдса, Паунд от образов современных ему академистов) их образы деперсонализированы по той убедительной причине, что индивидуальность легко приобретается капиталом, требуется объективное величие, чтобы оттолкнуть Маммону. Отказавшись от Маммоны, художник легко переходит во власть Тора и Перуна.
Усугубляет путаницу и то, что Хайдеггер и Паунд алчут Ренессансного обновления буржуазного мира, и если романтическая ипостась фашизма зовет к Ренессансу, и гуманистическая «парижская школа» также отстаивает ренессансные ценности, то в чем же разница?
Причем в обоих случаях аргументация убедительная: «парижская школа», отстаивая своих героев, может ссылаться на гражданский гуманизм Пальмиери и Альберти, а романтические фашисты будут, как они всегда это делали, апеллировать к античной пластике и величию Микеланджело. Одни сторонники Ренессанса объявляют себя «новыми гуманистами» и борются за республику, а другие жертвуют жизнью за империю и цитируют империалиста Данте. Правда в том, что действительно, и то, и другое, входит в понятие «ренессанс Европы».
«Ренессанс», столь значимое для истории Европы явление, стало причиной академических споров; суть споров сводится к тому, считать ли историю протяженным в бесконечность собранием уникальных, неповторимых явлений, или признать, что существуют повторяющиеся циклы. Разумеется те, кто склонен считать историю нескончаемой хроникой, не исключают анализа закономерностей, сходства некоторых признаков, соглашаются с тем, что из совпадения определенных факторов могут вытекать последствия, которые наблюдались ранее. Но, вместе с тем, утверждение, что феномен «Ренессанс» описывает уникальную ситуацию в городах-государствах Италии 14-15вв, и не может быть применим ни к какому иному явлению, стала господствующей. Подобно тому, как термином «Champagne» имеет право называться только игристое вино, произведенное в Шампани, а прочие игристые вина, сделанные по той же технологии, должны называться либо Cremant, либо «Донское игристое», так и понятие Rinascimento принадлежит лишь итальянской истории, конкретной дате в определенной географии. Однако, будучи переведенным на иные языки, понятие Renaissance или Возрождение стало обозначать уже не только эпизод в истории Италии, но прецедент в развитии культуры, когда обращение к прошлому обогащает настоящее. В Италии возврат в прошлое был облегчен тем, что города-государства находились на территории Римской империи, что некогда объединяла Европу. Обращаясь вспять, гуманисты Rinascimento должны были примирить и даже срастить искусство языческого Рима с христианским искусством своего времени; так осваивалась античная литература, скульптура и философия – и знание обогащало искусство христианской Европы 15 веков спустя. Процесс объединения двух эстетик получил название Rinascimento.
Оказалось, что оборачивались назад, в прошлое, не только в Италии; в 15-ом веке воспользовались этим приемом обогащения современности и на Севере Европе; северное явление уже не называли Rinascimento, поскольку к Италии и к итальянской культуре явление относится не прямо. Северный Ренессанс тоже смотрел в Римское прошлое, но культура Бургундии и Южной Германии была иной, нежели итальянская, и синтез античности с христианской культурой не похож на итальянский продукт.
Новое возвращение вспять, случившееся в 18-ом веке в Европе, называлось Просвещением, и оно было столь же интенсивным; новое возвращение воспроизвело прежнюю механику культурного процесса. Правда в этот раз обернулись уже не только на Рим, но и на Грецию – сумели заглянуть еще глубже в прошлое. При этом, оглянувшись, увидели не только античность, заметили и Rinascimento Италии, которое уже однажды оглядывалось назад. Оглянувшись второй раз, могли оценить и тот синтез античности и христианства, который возник после первого оборачивания назад. И философия Шеллинга, сколь бы ни была созвучна она философии Фичино (а это именно так), является уже рефлексией на Фичино, философия которого стала рефлексией на Плотина, который в свою очередь припоминал Платона. Этот процесс наложения рефлексии на рефлексию – и стал, по сути дела, «ренессансом», реверсным движением сознания, актом обдумывания бытия, - и при этом сам эпизод итальянского Rinascimento пребудет явлением XV века.
Исходя из опыта истории, можно было сделать вывод о том, когда именно случаются такие “возвраты”, “ренессансы” и зачем они случаются. Так и человек в минуты серьезных кризисов, оценивает всю свою жизнь заново, возвращаясь мыслью в прошлое, рассуждая, где совершил ошибку; в отношении культуры человечества, это припоминание тем более уместно. Вероятно, этот процесс припоминания связан в известном смысле и с “очищением” прошлого: так человек готовит себе биографию, выстраивая ее сообразно тем постулатам, которые считает истинными. Идет постоянная двойная редактура – прошлое редактирует настоящее, а настоящее переосмысливает прошлое – в таком гудящем поле рефлексии и существует человеческая жизнь.
Идея цикличной истории, которую иногда связывают с “Тимеем” Платона и которая со всей неумолимостью возникает в иудейской астрологии, была воспроизведена – с любопытной модификацией - Ницше в концепции “Вечного возвращения”, изложенной в книге о Заратустре. “Вечное возвращение”, навязчивая идея Ницше, по его представлению сводила на нет смысл истории: вечный повтор одной и той же логической и моральной контоминации делал бессмысленным любую дидактику. Но циклическое повторение “ренессансов” – хоть и напоминает “вечное возвращение” Ницше и планетарные обороты, тем не менее не только не исключает поступательного движения истории, но напротив – именно эти реверсные возвраты обеспечивают движение вперед.
Матрица возвращения, явленная в итальянском Rinascimento, а именно: столкновение языческого многобожия и культуры стихий, лишенных историчности, с целеполаганием монотеизма – сохраняется принципиальной для всех возвратов.
Но раз от разу, человечество, возвращаясь, зачерпывает прошлое еще глубже, уходя в следующий пласт памяти. Происходит это углубление по той лишь причине, что предыдущий возврат принес уже определенный материал, который был присовокуплен к настоящему опыту и уже использован для движения. В следующий раз требуется забрать еще более глубокий пласт, потом еще глубже, и так далее. Так, Просвещение, повернувшись к Rinascimento, а через него к Риму, затем пошло к Греции; ХХ век, войдя в толщу истории, не остановился на этом и прошел до Римской истории, к мифологии германцев. Фашисты вовсе не отвергали ни Римскую, ни Греческую историю, ни Ренессанс, просто они скрепили все рунами, спустившись к скандинавской мифологии, к Младшей Эдде, к Снорри Стурулсону в 13 век, но им потребовалось идти и дальше: искать пра-индоевропейскую расу. Так далеко ни Марсилио Фичино, ни Шеллинг не заглядывали, но тем значительнее выглядел новый «ренессанс».
Подобные друг другу, но не тождественные, эти возвраты обозначают не цикличность, но поступательное движение, основанное на реверсном механизме: для каждого нового рывка вперед и преодоления нового препятствия требуется вернуться и собрать новую информацию прошлого. Фашизм, сколь бы оскорбительно это не звучало, собрал достаточную культурную информацию для того, чтобы провозгласить обновление и оживление цивилизации (на тот манер, который представляется романически убедительным Паунду, Селину, д’Аннунцио, Маринетти, Муссолини, Малевичу и тп) на основе генетического фонда культуры.
Эмилио Джентиле использует термин «палингенез» для описания реверсного процесса, который проделан идеологией фашизма, тогда как это «оживление» генофонда культуры, предпринятое для формирования «политической религии», вписывается в «ренессанс», в общий ренессанс ХХ века. Термин «палингенез» можно принять, но тогда мы увидим тот же «палингенез» в экспрессионизме группы «Мост», в итальянском футуризме, в языческих символах русского супрематизма – которые равно могут напоминать, как знаковую систему иконописи, так и знаки язычников; причем, принципиальное анти-божие супрематизма убеждает в последнем. «Мы должны спуститься к корням», провозглашает Пауль Клее.
Очередной Ренессанс Европы, случившийся в начале ХХ века в Европе повсеместно, тотально – связан с обстоятельствами столь вопиющими, чтобы было бы поистине странно, если бы человечество не прибегло к испытанному омолаживающему средству. Тотальный демонтаж империй, смена монархических идеологий на республиканские, желание уничтожить капиталистическую цивилизацию, новая идеология угнетенных, заменившая христианство, и новая идеология национальная, заменившая языческие мифологии, все это в совокупности дало поистине возрожденческий эффект. Столкновение племенного инстинкта - с классовым сознанием, столкновение фашизма с коммунизмом, по сути, репродуцировало столкновение римского язычества с христианством. Идеологический конфликт-синтез, которым жил ХХ век, конфликт-синтез фашизма и христианства – воспроизвел в точности матрицу конфликта-синтеза Античного Рима и христианской Европы. Драматургия осталась той же, просто место Античной мифологии занял фашизм, а место христианской идеологии – коммунизм.
«Ренессанс» ХХ века, беспрецедентно глубокое и хаотическое возвращение, предпринятое в истории. – оживило хтонические силы тотальной государственности. Идеология фашизма («политическая религия»), равно как и языческие страсти авангарда вызвали к жизни обильный пантеон: не только скандинавско-германскую мифологию, сравнительно позднюю по времени, но и ведическую, персидскую, египетскую – создав синтетический продукт. Связано это с расовой теорией: т.н. арийская раса искала корни в пра-индоевропейцах, противопоставляя индоевропейскую расу семитской. Синтетическое, эклектическое язычество фашизма включало и римский пантеон, и скандинавские мифы, и индийские мифы (теории «средиземноморской расы» как ветви индоевропейцев и тп); в скором времени возникла своего рода «этнорелигозность» - влияющая на искусство, но и спровоцированная искусством. Еще до фашизма и одновременно с фашизмом возникали синтетические мифологии: по версии Блейка мир создал не Иегова, но жестокий демон Юрайзен, и т.п.; Паунд соединял конфуцианство и фашизм, сюда же вплетал дерево Бодхи принца Гаутамы; визионерские картины де Кирико оперируют символикой Рима и ницшеанским бессердечием; сюда же относится астрологическая геополитика Хаусхофера. Использовать термин «ренессанс» по отношению к этой «этнорелигиозной» языческой эклектике не хочется, но, откровенно говоря, визионерство и эклектика Паунда порой очень напоминают эклектику Пико делла Мирандола, который также пытался срастить многие знания воедино. Особенность процесса «ренессанса» в том, что зачерпывая прошлое, человечество берет не отобранную породу, но весь пласт. Присваивая античность, Rinascimento получило и Нерона и Сенеку одновременно, Александр и Аристотель пришли вместе, и государственную безжалостную концепцию уравновешивал Сократ. «Ренессанс», по определению механизма возврата, содержит культурный генофонд во всей его противоречивой полноте: и, даже если намерением было «спуститься к корням» цивилизации, туда, где нет мелодраматичного христианства и морализирующего Сократа, и потому спустились к Эдде, затем к Регведе и богам Египта, но когда дошли до Египта, встретили там Моисея.
Ренессанс Ветхозаветной республики стал естественным ответом на беспрецедентный геноцид евреев, на возврат хтонической государственности, которой всегда противостоял народ Завета.
Искусство доказывает (нравится или нет, но приходится с этим согласиться, разглядывая картины), что процесс «ренессанса» сплавляет обе тенденции: республиканскую и имперскую, гуманистическую и государственную, индивидуалистическую и коллективистскую. Разделить искусство Франции ХХ века на «парижскую школу» и «франко-французскую школу» необходимо, чтобы осознать конфликт, но тут же надо признать, что школы существуют параллельно и проникают одна в другую. Даже само понятие «гуманизм», как мы видим на примерах 16ого века, дифференцировано, и «гражданский гуманизм» не всегда соответствует «христианскому гуманизму»; но общий пласт «ренессансной» культуры 20-ого века содержит как тождества, так и антагонизмы.
Ренессанс славен не только гуманистами, но и кондотьерами. Причем весьма часто свойства сочетаются. В 1919 г Габриэле д’Аннунцио, лидер националистического движения, захватил город Фиуме, провозгласил «Республику Красоты», а на знамени фашистской республики начертал «Кто против нас». Практически все фашисты чувствовали себя деятелями Ренессанса. Такие как Филиппо Маринетти, Фортунато Деперо, Морис Вламинк, Казимир Малевич, Родченко – разумеется, считали себя людьми «ренессансными», просто из их трактовки Ренессанса исключен гуманизм. Герман Геринг называл себя «последним человеком Возрождения», Адольф Гитлер на вопрос Леона Дегреля «Мой фюрер, откройте великую тайну, кто же вы?» ответил фразой, возможной в устах Лоренцо Медичи «Открою вам великую тайну. Я – древний грек!».
Дружба, переросшая во вражду между Шагалом и Малевичем – воплощение этого конфликта; дружба-вражда Пикассо и Матисса символизирует этот «ренессанс».
Сам Пикассо в чередовании своих периодов, манер, стилей – продвигаясь то в глубину к греко-римской мифологии, то в христианство, то в Африку, то в итальянский Rinascimento – реверсным процессом движения: возврата и возвращения - воплощает Ренессанс ХХ века.
Ренессанс 14-15 веков, как и «ренессанс» 18ого века, как и «ренессанс» ХХ века ознаменован изменением политической структуры миры, изменением карты и социальной организации. Было бы странно видеть в картинах - иллюстрации изменений.
Изменение тотально: не Гегель появился потому, что пришел Наполеон, и не Наполеон пришел потому, что появился Гегель; не Малевич появился потому, что возник Сталин, и не Сталин проявил себя в связи с деятельностью Малевича; культура разворачивается всем своим многосоставным организмом.
6
«Парижская школа» собрала редчайших людей, анархистов, республиканцев, ветхозаветных евреев, гуманистов.
Жонглер, трувер, школяр, художник, поэт, книжник – иными словами, ренессансный гуманист - скитался из страны в страну, ища пристанища, осел в Париже. Гении Ренессанса, те самые, которые определяют время: Рабле, Вийон, Маро, Дюперье, Бруно, Эразм, Леонардо – они ведь именно такими и были: бесприютными скитальцами. Жизнь Европы 16ого века в условиях религиозных войн, контрреформации – напоминала предвоенную атмосферу Европы в ХХ веке: партийный энтузиазм и религиозный фанатизм схожи. Конфессиональная и национальная спесь застилали зрение, требовалось быть Джордано Бруно или Франсуа Рабле, Пикассо или Оруэллом, чтобы не поддаться «авангардным» настроениям, губительным для мозгов.
Встреча бродяг-жонглеров и школяров-выпивох в «Ротонде» напоминала двор Рене Доброго в Эксе. Приют пестрой компании гуманистов из разных уголков Европы – убежище всякий раз ненадежное, таким оно было и в Париже 10-х годов прошлого века. «Телемиты» «Ротонды» жили по рецептам Рабле: «делали, что хотели», творили, приникали к «оракулу Божественной бутылки».
Не следует ли в таком случае прочесть выражение «потерянное поколение» как эвфемизм термина «ренессанс»? Флоренция Лоренцо Медичи была сметена с исторической карты столь же стремительно, как Парижская коммуна была сметена версальцами, а содружество «Ротонды» было уничтожено фашизмом. Скорее всего, фашизм – часть общего процесса «палингенеза», одна из составных частей «ренессанса», но мы же не равняем Микеланджело и Малатесту.
То, что роднит Модильяни, Пикассо, Ремарка, Сутина и Хемингуэя и Оруэлла это доктрина гуманизма, неприятие «господства над другим», республиканизм. Выражение Гертруды Стайн, данное как характеристика Парижской школы - «потерянное поколение», относится не только к парижанам, но описывает явление «ренессансный гуманизм» в принципе. Судьба гуманистического усилия, обреченного потеряться среди прагматики исторического процесса: возвращаясь назад, вооружаясь знаниями прошлого – возвращаешься в свой век, где имеется своя логика, и ты лишний. Rinascimento это ведь тоже забытая утопия, социальная и этическая программа республиканцев, потерянная между веками абсолютизма. Потерялась в имперских эпопеях и утопия Латинского квартала, возрождение ветхозаветной республики.
Сутин был ветхозаветным евреем, весьма далеким от христианства, хотя распятие им все же написано. Это бычья туша. Растянутая меж крючьев на скотобойне туша быка, - сюжет столь важный, что Сутин повторил его шесть раз – разумеется ни что иное, как распятие, но это не христианский сюжет. Все варианты «Туши быка» – экстатическая живопись; выделю картину 1924 (Галерея Олбрайт Нокс, Буфалло). Мотив выбран под впечатлением от идентичной картины Рембрандта, которого Сутин считал учителем. Сам Рембрандт не имел в виду распятия: когда голландец хотел писать Распятие, он так и делал, к чему иносказания. Но Сутин, идя вслед за голландцем, сделал из туши быка – гимн сопротивления и распятию придал смысл, родственный христианскому, но не христианский. Сутин возвратил событию «Распятия» – значение сопротивления империи, изначально присутствующий. Римская казнь, применявшаяся к восставшим рабам, стала символом религии; однако, существует собственно ветхозаветное отношение к факту распятия, до-христианское отношение к данному виду казни: восставших иудеев распинали на крестах. Иосиф Флавий рассказывает, как при подавлении восстания Симона Пиренейского (за некоторое время до Иисуса, IV г до н.э.) было распято до двух тысяч иудеев. Горящие цвета превратили освежеванную тушу в символ еврея судьбе, и больше – в символ восстания республики против империи. Сутин долго следил за работой на скотобойне, говорил с Пикассо о корриде, затем решил написать распятие быка. Важно то, что жертву приносит не избранный сын Бога – но любой; это не христианская жертва во искупление, но восстание раба. Туша быка на полотнах Сутина раскорячена, растянута так, что кажется, освежеванное тело вопит от боли. Вопль рвется из ребер, и зритель, ни на миг не забывая, что видит тушу животного, в которой нет ничего сакрального и вечного - слышит постоянный крик о справедливости.
фото: Fine Art Images/FOTODOM; Topfoto/FOTODOM